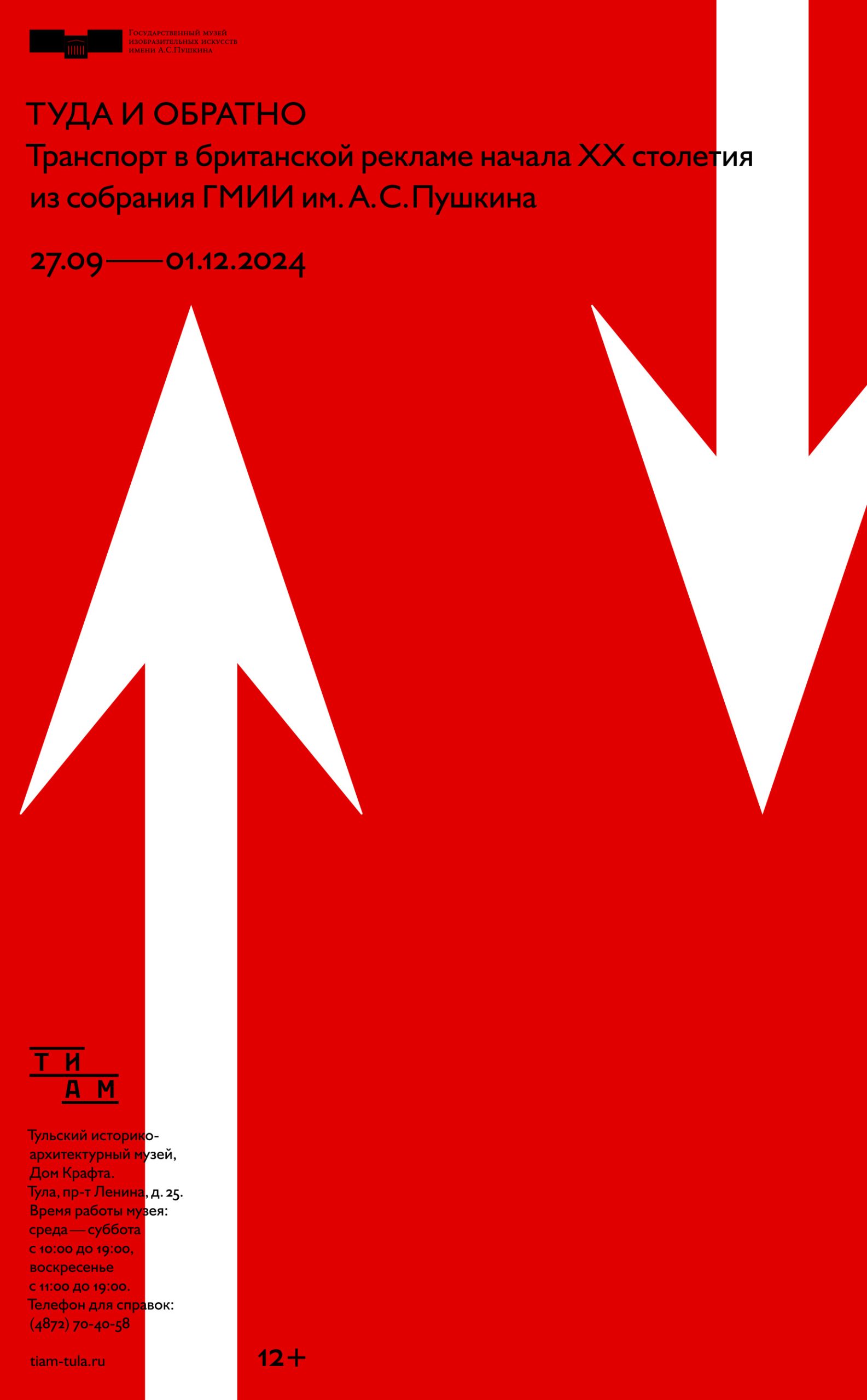Дата: 4 октября 2024 — 23 февраля 2025
ТИАМ, Нимфозориум (улица Металлистов, 19).
Билет возможно приобрести по «Пушкинской карте».
Выставка, организованная совместно Тульским историко-архитектурным музеем (ТИАМ) и московской галереей ГРОСart, приурочена к 65-летнему юбилею художника и представляет более тридцати деревянных скульптурных фигур мастера разных лет, включая совсем новые работы, посвященные русским писателям и поэтам, в частности, Николаю Семеновичу Лескову. Выставка призвана стать неординарным событием художественной жизни Тулы, так как Николай Ватагин принадлежит к тем авторам, кто самозабвенно и непрерывно создает произведения искусства, но весьма редко и не слишком охотно показывает зрителю свое творчество.
Подробнее о проекте
Окончив в 1983 живописный факультет Суриковского института, Николай Евгеньевич Ватагин изначально работал в жанрах портрета и пейзажа. С начала 1990-х годов активно занимается скульптурой, которую рубит из дерева и говорит об этом так: «Работа для меня — чистая радость. Сам процесс вызывает у меня восхищение: это тебе не кисточкой водить, тут надо потрудиться топором, стамеской. Чувствуешь себя настоящим мужчиной, исполняющим нелегкую работу». Впрочем, в собственном творчестве он развивает в остром и лаконичном современном ключе лучшие художественные традиции своей семьи, заложенные его прабабкой – художником-передвижником Антониной Леонардовной Ржевской (1861–1934) и дедом – скульптором и графиком-анималистом Василием Алексеевичем Ватагиным (1883–1969).
Обращаясь к дереву как к одному из устоявшихся скульптурных материалов, Николай Ватагин строит яркие самобытные образы, в которых заявлена сдержанная модернистская примитивизация формы и тонкая ироничная фабула смысла. Мир его героев, включающий писателей, поэтов, художников, литературных персонажей и просто многочисленных современников, отличается особой цельностью и уникальной трактовкой, неизменно отмеченной легким гротеском и добрым юмором. Причем писатели и поэты, с которых всё и начиналось, составляют в этом ряду самый обширный раздел. Как вспоминает Николай, «свою первую фигурку (это был Лев Толстой)» он «вырезал в 23 года на ночном дежурстве в армии». В дальнейшем на фоне любви «к народному искусству и литературе, особенно литературной критике» число их достигло нескольких сотен.
Деревянные скульптуры Н. Ватагина призваны «оживить» старых и более молодых классиков русской литературы, показать их облики в относительной полноте индивидуальных профилей, но подверженных парадоксальной иронично театрализованной «мифологизации». Раскрашенные маслом и покрытые лаком большие, малые и средние фигуры совмещают в себе псевдо-лубочную стилизацию и реалистическую портретность, передающую большее или меньшее, но всегда узнаваемое сходство с прижизненными живописными или графическими изображениями, фотографиями и описаниями современников. Залогом тому служит особое отношение к ним художника: «Наши писатели для меня – живые люди. Одни, как Пушкин и Достоевский, – мои близкие друзья, на других, как, например, на Андрея Платонова, я обижен, с третьими ругаюсь и считаю своими врагами, хотя в конечном счете всех их люблю».
Несмотря на то, что, по признанию Н. Ватагина, больше всего он «сделал Пушкина всегда разного и Льва Толстого – всегда одинакового», примерно, с конца 1990-х годов к классикам русской литературы мужского пола (всегда одетым) добавились избранные музы, как Наталья Пушкина, и поэтессы (Анна Ахматова и Марина Цветаева) – причем неизменно обнаженные. За их первозданной целомудренной наготой скрывается не какой-то вызывающий творческий эпатаж, характерный для авангардных практик начала ХХ века, а пронзительная образная отсылка к животрепещущему предельно открытому художественному нерву этих гениальных вдохновительниц и мастериц поэтического слова.
С одной стороны, Николай Ватагин откровенно играет в своих литературных классиков, вытачивая то ли «монументальных» кукол, то ли «игрушечных» монументов. С другой стороны, он вкладывает в них нешуточный заряд физических и умственных усилий, помноженных на его синтезирующую пластическую энергию. Не случайно его скульптурные работы находят такой искренний отклик не только у непритязательных зрителей, но и у строгих в оценках собратьев по профессии. В этом смысле показательно высказывание известного московского живописца Ирины Старженецкой: «Меня особенно привлекают созданные его руками фигурки русских писателей. Статическая законченность и незыблемость конструкций больших фигур здесь не так серьезны, они обаятельно остроумны, всегда вызывают улыбку. Чем их больше, тем они интереснее; это подлинная игра интеллекта». К этим словам стоит добавить, что звучащий в них стройным хором внутренний девиз мастера предельно прост: «Рублю – что люблю!» Но это та редкая дарованная свыше простота, без которой нет настоящего искусства.
Елена Грибоносова-Гребнева

О художнике
Родился в 1959 в Москве.
В 1970 поступил в Московскую среднюю художественную школу. В 1983 окончил факультет живописи Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова, учился в мастерской Т. Салахова.
С 1978 активно участвовал в молодежных, а также республиканских и всесоюзных выставках. Работает в живописных жанрах портрета, пейзажа. С начала 1990-х параллельно с живописью занимается деревянной скульптурой.
С 2013 года тесно сотрудничает с галереей ГРОСart.
Награжден медалью МОСХа и золотой медалью Российской академии художеств.
Живет и работает в Тарусе и Москве.
Произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее, Пермской государственной художественной галерее, Тарусской художественной галерее, а также в многочисленных музейных и частных собраниях в России и за рубежом.
Вернисаж (фотоотчет Артёма Лоскота)
Вся деревянная рать
Школьник, листающий учебник истории, вправе задаться вопросом, зачем нужны воображаемые портреты великих людей, от которых не осталось никаких изображений. Если говорить об античности, то мы знаем, как выглядел Антиной, но, к сожалению, не Аристотель. Однако вымышленных портретов исторических деятелей великое множество, и они появились не вчера. И все же художник, рисующий кого-либо, опираясь лишь на свое воображение (а так приходится рисовать и Шекспира, и Сервантеса), может запечатлеть образ, либо соответствующий нашему представлению о герое, либо противоречащий ему.
Но что это за представление? Реконструкция или фиксация облика подразумевает характеристику. В эпоху барокко выходили большие сочинения, авторы которых классифицировали человеческие физиономии по сходству с различными животными, характеристики которых в культуре уже устоялись: так, у людей-львов обнаруживаются одни свойства, а у людей-овечек, естественно, свойства будут совсем другими. Сейчас все проще и приземленнее. Чем прочнее писатель (художник, композитор) вошел в школьный канон или малый джентльменский набор того, что полагается знать каждому, тем легче его припечатать одной хлесткой фразой вроде знаменитого «Муля, не нервируй меня», которым дети дразнили Раневскую на улице. Одни, как некогда Брюсов, сами стремятся нацепить на себя такой ярлычок, другие, как Кушнер, недовольны, если читатели подобный ярлычок для них находят.
Может быть, писатели (как и некоторые ученые) — это школьные святые, а святым, например в католичестве, полагаются атрибуты, чтобы никто не перепутал Екатерину Сиенскую с Касильдой Толедской. И, если атрибуты, допустим, Галилея – телескоп и слова «А все-таки она вертится», то Ломоносову положены парик и взгляд, прозревающий будущее величие то ли российской словесности, то ли российской науки.
Как сказал писатель и художник Александр Бренер в беседе с поэтом и критиком Львом Обориным, «авторство – это уже маска, личина, обличие… Борхес отлично понимал, что маска перестаёт быть маской, когда обрастает всё новыми и новыми двоящимися масками. В результате симулякр автора преобразуется в чистый фантазм. Автор исчезает – остается лишь его тень» [1]. Облик писателя становится растиражированным мемом, вторит ему Оборин, но сколько у нас таких писателей? Борода Фета, добавляет он, была не хуже, чем у Льва Толстого, но в культуре не удержалась.
На первый взгляд кажется, что серия скульптур Николая Ватагина, изображающая русских (и не только) писателей и художников, как раз и представляет собой нарочитый примитив, эксплуатирующий подобные растиражированные мемы. Тем более, что материал – раскрашенное дерево – прямо-таки провоцирует на упрощенные трактовки. О традиции пермской деревянной скульптуры (тоже раскрашенной) вспомнят единицы, но зато яркие матрешки встанут перед внутренним взором любого, кто не чужд русской культуре.
Но, может быть, это такой особый прием преувеличения ожиданий, сродни пушкинскому «читатель ждет уж рифмы “розы”»? То, что Сьюзен Зонтаг называла словом «кэмп», так и не укоренившемся в отечественном обиходе? Похоже, что Ватагин предлагает зрителю не собственный взгляд на Толстого (или Малевича, Гончарову, Рахманинова), а свою трактовку той (неизбежно упрощенной) картинки, которая сложилась в голове нашего усредненного соотечественника благодаря усилиям учительниц и культуртрегеров.
Ироническое педалирование привычного намекает на то, что, если русские писатели именно такие, тогда с тем, что Волга впадает в Каспийское море, а смерть неизбежна, не поспоришь. Если же они не сводятся к этим образам, то и в других непреложных истинах дозволено усомниться.
Владислав Дегтярёв, культуролог.
[1] Лев Оборин, Александр Бренер. Ребяческая признательность и неистребимая любовь – https://polka.academy/materials/987 (дата обращения – 18.09.2024)

Писатели как персонажи
Британский историк Эрик Доддс в книге «Греки и иррациональное» предложил модель древнегреческого «я», по сути дела – допсихологического представления о личности. Если верить Доддсу, греки считали ядро своей личности полностью рациональным, а все аффекты – внушенными извне, буквально навязанными тем или иным божеством. Крайний, но показательный пример – безумие Аякса в «Илиаде», наведенное Афиной, когда он убивает быков, приняв их за спящих воинов.
Конечно, древние понимали, что внутренние «я» у разных людей различаются, но психологии в нашем современном понимании здесь нет: они могут быть опосредованы то положением Солнца относительно зодиака, то соотношением различных «гуморов», что дает повод для грубой, но действенной классификации характеров, будь то по Гиппократу (холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик), или по Феофрасту. Впрочем, Комедия дель арте с фиксированными амплуа персонажей (Панталоне – скупой старик, Коломбина – находчивая служанка) представляет собой еще одну подобную типологию. Кажется, и персонажи карт Таро, при всем их натянутом глубокомыслии, не слишком далеко ушли от этих ролей.
Психология – она о другом. Она (большой привет Фрейду!) говорит о единой личности, включающей в свой состав всех своих иррациональных тараканов. Психотерапевты всего мира пытаются разобраться, какие неврозы и травмы мешают их пациентам разумно действовать на пользу себе и окружающим. Но, если психологическая «проработка» своей жизни – примета конца XX – начала XXI века, то в литературе все это началось намного раньше. Как писала Лидия Гинзбург, «когда герой собирался жениться на любимой девушке, он радовался, когда умирали его близкие, он плакал и т.д. Когда же все стало происходить наоборот, тогда и началась психология»[1].
Кирилл Кобрин, комментируя эти слова, говорит об отсутствии психологии, как об основной характеристике новаторской литературы ХХ века. «В сочинениях, – пишет он, – некоторые из них [писателей-модернистов] создавали мощные психологические системы…, но смотрели они на психологию со стороны, анализировали вчуже, использовали в качестве художественного объекта, который можно превратить во что-то иное…»[2].
Поверхностное же знакомство с психологией и желание прямолинейно перенести ее на литературу приводит подчас к странным результатам. Представление о том, что литература может (и прямо-таки должна) взять на себя функции науки о личности и социуме сейчас воспринимается как странная смесь позитивизма и реакции на цензуру времен позднего Николая I. «Галерея гоголевских типов» художника XIX века Петра Боклевского кажется сейчас чем-то не только смешным, но и вовсе ненужным, поскольку находится на грани самой плоской дидактики в духе приснопамятного «Дети, в школу собирайтесь…». Даже иронизировать над этим столь же излишне, как писать пародию на букварь. Однако, создав, подобно Николаю Ватагину, аналогичную «галерею», персонажами которой становятся сами писатели, мы оказываемся в метапозиции по отношению к тем, кто насаждает школьное знание. Такая стилизация стилизации намного тоньше, чем сборники шаржей и литературных пародий, и позволяет вернуть гротеск в область чистой иронии, не заинтересованной в практическом результате, как и сама эстетика.
Владислав Дегтярёв, культуролог.
[1] Лидия Гинзбург. Литература в поисках реальности. Л. 1987. С. 177.
[2] Кирилл Кобрин. Человек двадцатых годов. Случай Лидии Гинзбург // Кирилл Кобрин. Modernite в избранных сюжетах. М. 2015. С. 195.

Фет, смотрящий на звёзды
Природа – антитеза истории. Как ни странно, их противоположность сохраняется, как бы мы ни понимали ту и другую.
Если история, как в древности и в Средние века – magistra vitae, наставница в добродетели, то природа, ей в противовес, будет равнодушно сиять вечною красой. Если история неповторима и не ведает сослагательного наклонения, тогда природа окажется царством вечного возвращения, не знающим ни развития, ни индивидуальности. Если история ведет нас от дикости к сияющим высотам цивилизации и прогресса, природа сделается ее антиподом, царством взаимного истребления, где единственная реальность – «кровавый коготь, алый клык», о которых писал Теннисон, и позднее вспоминал Заболоцкий, не искавший гармонии в природе.
И даже если мы вовсе откажем истории в какой-либо осмысленности, природа сумеет сохранить нужные нам смыслы или, как сказали бы циники, позволит их в себя вписать.
«Фет на вопрос, к какому бы он хотел принадлежать народу, // Отвечал: ни к какому. Любил природу», – так завершил Александр Кушнер ироническое стихотворение о стереотипах национальных характеров. Можно предположить, как отвечал бы на это сам Фет. Возможно, он сказал бы, что среди людей один скуп, другой труслив, третий за всю жизнь не прочел ни одной книги, но ласточка – это просто ласточка и она делает то, что предназначено ей свыше наилучшим возможным образом.
Здесь напрашивается заезженное слово «невинность», однако истинная невинность утрачена человеком вместе с утратой рая (думаю, что неверующий Фет с этим согласился бы). Жить жизнью природы мы уже не можем, ведь душа, как сказал старший современник Фета, не то поет, что море. Человек странным образом не желает принять себя самого, свою природу, как то, с чем нужно жить. Даже в греческих мифах персонажи постоянно превращаются из людей в кого-то другого. Остается вспомнить, кого превратили в звезды.
Эратосфену Киренскому, первым сумевшему измерить Землю, приписывали поэму «Превращения в звезды». Там упоминаются Андромеда и ее мать Кассиопея, Персей, который спас Андромеду от чудовищного Кита, но и сам Кит, также ставший созвездием. В общем, понять, для кого превращение в светящиеся точки на черном фоне стало наградой, а для кого – наказанием, решительно невозможно. Впрочем, вне зависимости от того, в какие узоры мы складываем звезды, они просто есть, а мы просто можем на них смотреть. Что же касается всего остального, то оно случайно, а потому – не важно. Так мог бы сказать Фет, если бы вдруг захотел с нами объясниться.

СМИ о выставке
Интервью начальника нашего отдела по связям с общественностью Дениса Бычихина программе «Вести-Тула»