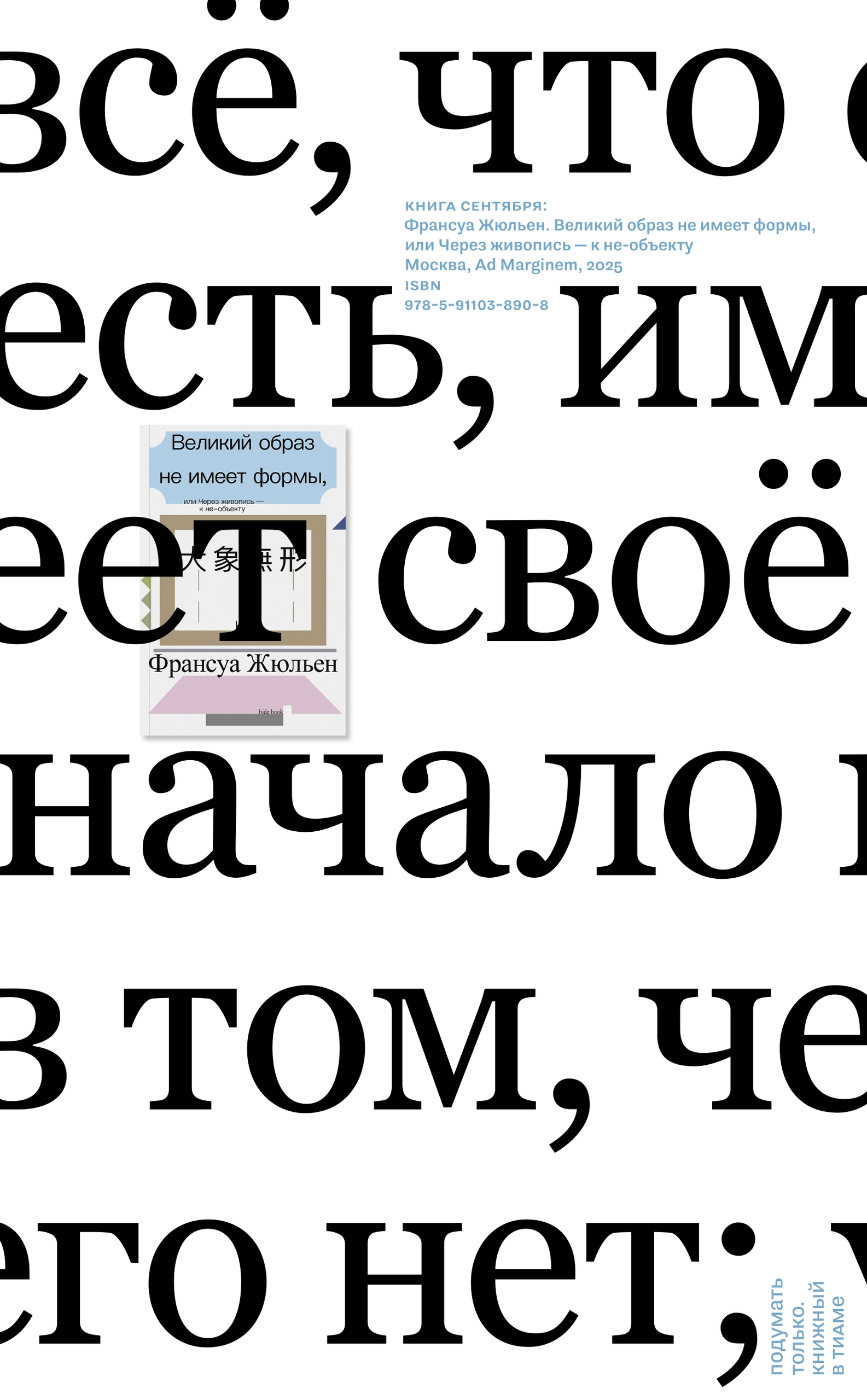
Друзья, представляем нашу книгу месяца – Франсуа Жюльен «Великий образ не имеет формы, или Через живопись – к не-объекту» (Москва, Владивосток: «Ад Маргинем Пресс», 2025).
Скидка весь месяц — 10%
График работы книжного магазина:
• среда-суббота: 10:00-19:00;
• воскресенье: 11:00-19:00;
• пр. Ленина, 27, цокольный этаж.
Рецензия от публициста Игоря Манцова:
Любые цитаты из любых китайцев производят «поэтическое впечатление», и это, конечно, не потому, что китайцы то и дело разговаривают стихами, а потому, что их стиль мышления радикально отличается от нашего. К своему мышлению мы привыкли, воспринимаем его, поэтому, как «прозу жизни», вот и радуемся любому китайскому словоизвержению, будто поэзии…
Так или не так, и только ли в этом дело?!
На все мыслимые вопросы о китайском стиле мышления и китайском художественном методе отвечает своими книгами Франсуа Жюльен – живой классик, французский переводчик и толкователь китайской философии. Издавали его по-русски достаточно. Особенно хочется отметить программного характера книгу «Путь к цели: в обход или напрямик? Стратегия смысла в Китае и Греции» (М., 2001), общее содержание которой хорошо понятно уже из названия.
Издательство «Ад Маргинем Пресс» взялось за Жюльена в 2014-м, когда впервые выпустило его книгу «Великий образ не имеет формы, или Через живопись – к не-объекту» (вышла на языке оригинала в 2003-м). То издание давно стало библиографической редкостью. Второе выходит с другой обложкой, но с прежним увлекательным содержанием.
Из аннотации: «Книга выдающегося французского синолога Франсуа Жюльена представляет собой сравнительный анализ европейской и китайской живописи. По мнению автора, китайская живопись является полной философией жизни, которая, в отличие от европейского искусства, не стремится к объективности и не желает быть открытым «окном в мир», предназначенным для единственной истинной точки зрения. Отсутствие формы у великих образов китайского искусства означает непрерывное движение и перетекание форм друг в друга, стирающее ясные очертания вещей и нивелирующее границу между видящим глазом и миром».
Франсуа Жюльен начинает третью главу «Смутное-тусклое-неотчётливое» следующим интригующим образом: «Должен признаться, что я ввязался в довольно странную авантюру. Насколько она вообще, на самом деле, представима? Ведь с её помощью я пытаюсь ни больше ни меньше как разрушить то самое, на основе чего выстроился, и столь прочно, европейский язык (навязывающий сегодня свои категории остальному миру); развернуть и расторгнуть оппозицию присутствия и отсутствия, или жизни и смерти, или, наконец, ещё одну, идущую с первыми двумя рука об руку и их подкрепляющую, — субъекта и объекта. К этому ведёт и даосская мысль, говоря нам своими уклончивыми формулировками о растворении дао, и живопись Дун Юаня, погружая вершины в туман, пряча и вновь показывая дороги, скрывая и выявляя верхушки деревьев…»
Ну, вот, незаметным для нас и, кажется, для себя образом Жюльен переходит в своём научно-доказательном исследовании на язык почти-поэзии: китайская манера мыслить заразительна.
Поначалу хотелось дать развёрнутое читательское впечатление от книги, однако, очень скоро выяснилось, что все её положения настолько тесно между собой увязаны, что выемка/предъявление одного-двух из них – профанирует эпохальный, без преувеличения, труд Франсуа Жюльена.
И всё-таки, для примера: «…Теперь вопрос переворачивается и направляется на нас: почему пустота и вершимое ею разрежение не стали источником духовного в Европе (и почему мы предпочли им гипотетическую “полноту” Бытия или Бога)? Ведь именно к “пустоте” (кенон) были обращены первые жесты греческой философии. Причём она сразу подчиняет пустоту вопросу о “бытии”: Аристотель первым дело спрашивает, нужно ли “верить” в существование пустоты, “есть она или же её нет”».
Словно опытный драматург, Жюльен доигрывает эти положения в финальной части: «…Думаете, мне интересно было представить на этой картине двух персонажей? – уточняет вопрос собеседника Пикассо и объясняет: вначале их взгляды заставили меня что-то почувствовать: мало-помалу реальное присутствие рассеялось, и они превратились в фикцию, образовали задачу, стали для меня уже не двумя персонажами, а игрой форм и красок, в которой, однако, “сохранялась суть” – “вибрация жизни”. Взявшись выявить вибрационную систему феномена, решившись мыслить его как феномен энергетический, европейский модернизм совершил ту же революцию, что и квантовая физика: они пришли к этому открытию одновременно, философия догнала их позже. Центральным пунктом в этом согласии живописи и физики оказался действующий характер пустоты, так рано осознанный в Китае… Отбросив императивы подражания, в том числе подражания идее, модернисты стали понимать свою работу как “параллельную природе” (Сезанн), “равную природе” (Пикассо), возникающую “технически, так, как возник космос” (Кандинский)».
Выдающаяся книга с иллюстрациями для медленного внимательного чтения и пристального рассматривания. Третье её издание неизбежно, однако, когда оно ещё будет! Но второе – уже в нашем магазине «Подумать только».









