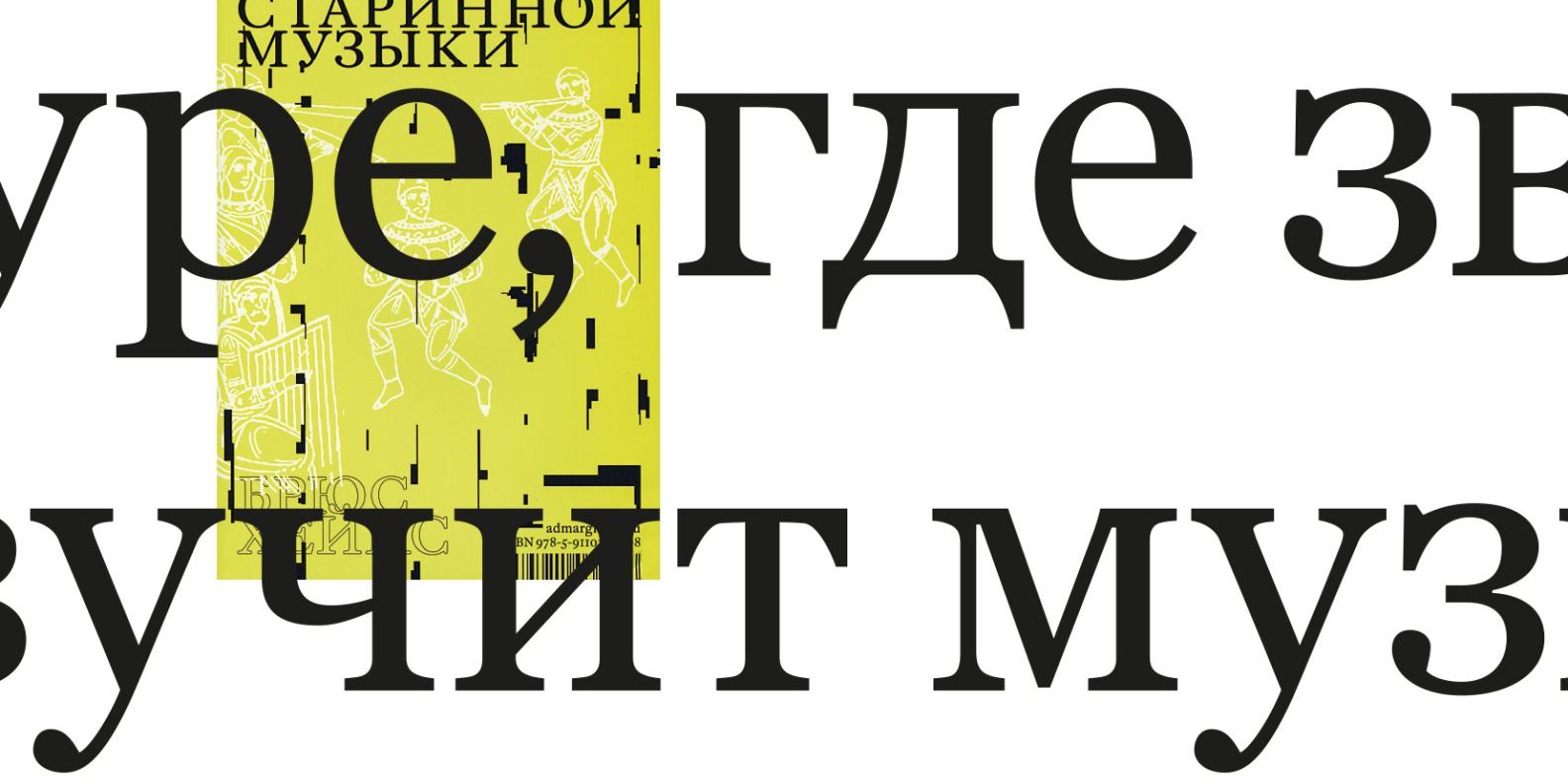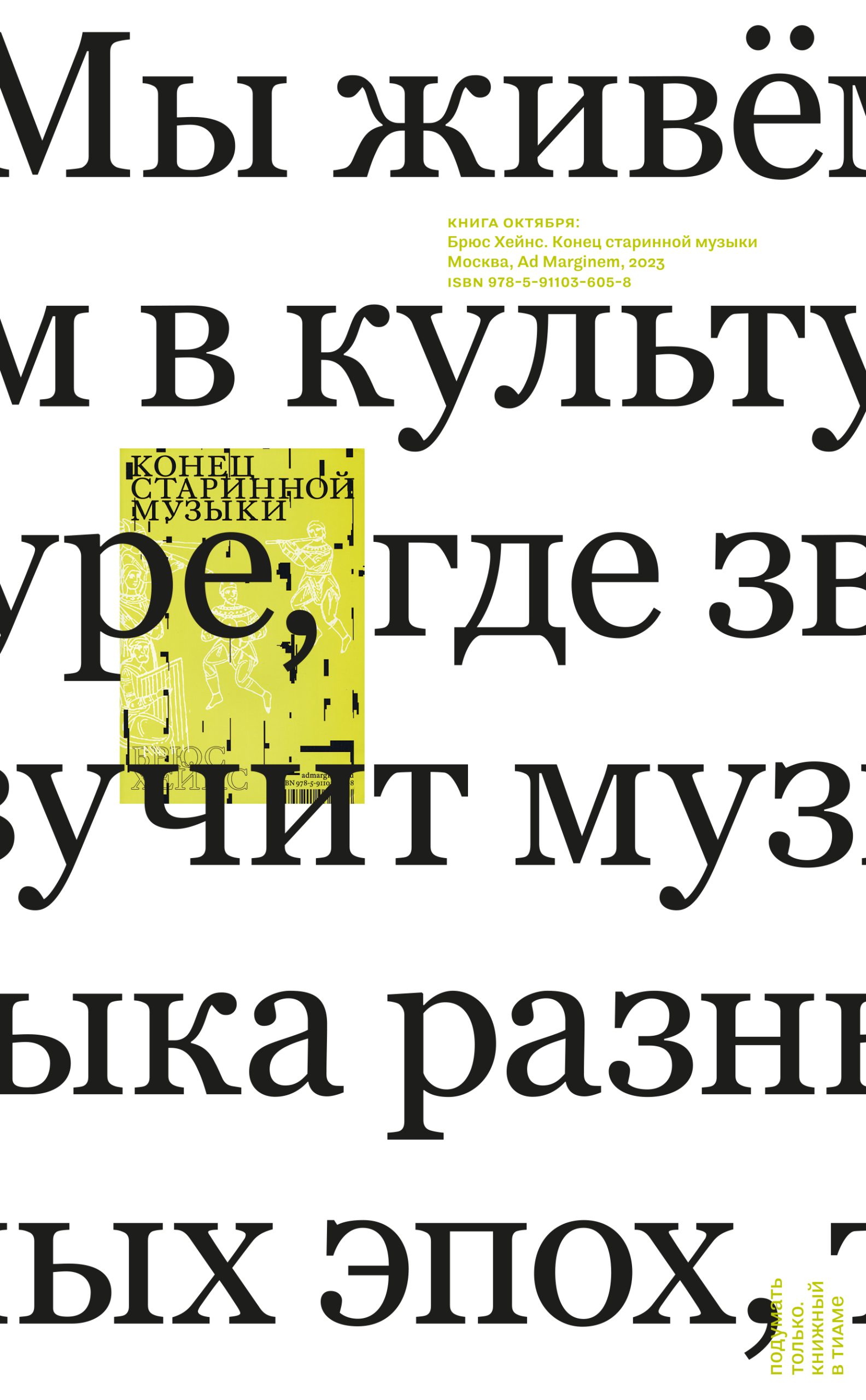
Друзья, представляем нашу книгу месяца – Брюс Хейнс «Конец старинной музыки» (Москва: «Ад Маргинем Пресс», 2023). Скидка весь месяц — 10%
График работы книжного магазина:
• среда-суббота: 10:00-19:00;
• воскресенье: 11:00-19:00;
• пр. Ленина, 27, цокольный этаж.
Аннотация:
Брюс Хейнс сделал карьеру как гобоист в классическом оркестре и с молодости интересовался историей исполнительской практики и своего инструмента (в конце 1960-х годов он открыл в Калифорнии мастерскую, где под его руководством делались реплики барочных гобоев). Накопленный им опыт исполнения на современных и исторических инструментах, концертов и записей с известными музыкантами и коллективами, общения с музыковедами лег в основу этой книги, в которой Хейнс рассказывает, как кодифицированная нотная запись и распространение музыкальных произведений на бумаге постепенно очистили западную музыку от вариативности и сделали ее «академической» — и как потом, в последние полвека, академические музыканты обнаружили за строгим фасадом своей дисциплины целую вселенную, из которой, не сумев ее полностью подчинить, эта дисциплина выросла. Таким образом, исторический конец старинной музыки оказался условием ее начала, нового рождения, к которому был причастен и автор этой книги.
Рецензия Игоря Манцова:
Допустим, вы не любите «академическую музыку», в лучшем случае терпите фонового Иоганна-Себастьяна Баха и «Времена года» Вивальди. Всё равно – пойдите, купите и прочитайте книгу Брюса Хейнса (1940 – 2011), потому что это образцовое интеллектуальное расследование. Автор не столько даже про музыку, сколько про методологию мышления: «Я пообещал Канадскому совету по делам искусств, великодушно предоставившему мне грант, что моя книга не будет сугубо музыковедческой, и сдержал своё обещание (притом, что, готовя её, прочитал массу книг, многие из которых написаны музыковедами)».
К примеру, начинает со спецвопроса про «агогическую свободу школы Листа» и «агогический акцент» (погуглите, это интересно), но тут же переходит на позиции общефилософские, разбираясь уже с характером человеческого времени как такового: «Роберт Хилл утверждает, что время – основной критерий, по которому современный исполнительский стиль отличается от предыдущих, потому что “когда исполнитель организует время субъективно, не придерживаясь внешнего, регулярного метра, решения, касающиеся времени, должны быть действительно интуитивными. Они должны импровизироваться, даже если следуют некоторому схематическому плану; они не могут быть “воспроизведены””…».
А рассуждая о разнице между «аффектом» в старинной музыке и «субъективной индивидуалистической романтической эмоцией» в музыке XIX столетия, уверенно переходит к весьма универсальным рассуждениям о прагматике высказывания: «Аффект — изменение души, вызванное извне. На это указывает этимология слова “аффект”. Оно возникло от греческого pathos, “страсть”, и обозначало эмоциональное состояние, вызванное внешней причиной… Таким образом, слово аффект подразумевает взаимодействие между исполнителем и слушателем, аффекты влияют на нас. Меллерс пишет: “…индейские, африканские или эскимосские шаманы никогда не спрашивают, хороши ли сами по себе песни, которые они поют, гораздо важнее, насколько они действенны – полезны ли они?”»
Книга Брюса Хейнса полезна сразу по нескольким причинам. Первую – методологическую ценность и широту социокультурного охвата — мы уже указали. Во-вторых, автор знакомит тех, кто пока что не в теме, с легендарными пионерами исторического исполнительства 1960-х годов – Николаусом Арнонкуром, Густавом Леонхардтом, братьями Кёйкенами — героически устремившимися «назад в прошлое» в процессе реконструкции исполнительских стилей и воскрешения музыкальных языков прошлого.
В-третьих, Брюс Хейнс, сам классный гобоист и вдобавок мастер по изготовлению клонов барочных гобоев, даёт грандиозную музыкально-историческую панораму, сопровождая свои рассуждения большим количеством аудиопримеров, которые можно прослушать с использованием QR-кода. Эта книга — не столько даже «история музыки, написанная исполнителем-аутентистом для XXI века», как сигналит подзаголовок, сколько изящная, оригинальная и убедительная философия музыки:
«Один из основных тезисов движения HIP (аутентичное или исторически информированное исполнительство) – отрицание идеи прогресса в искусстве, которая всё ещё держит многих из нас в (неосознанном) плену. История музыки, утверждают исполнители-аутентисты, это не история постепенного улучшения; или, словами Коллингвуда, “Бах не был несостоявшимся Бетховеном, а Афины – несостоявшимся Римом”. Цели концерта Вивальди существенно отличались от целей концертов Моцарта, Бетховена или Паганини; сравнивать их имеет смысл только с учётом различия артистических задач».
Много смешного: «Дирижёров стали называть “маэстро” примерно только с середины XX века. Кристофер Смолл сравнивает “маэстро” с магом или шаманом, вызывающим дух умершего композитора. Он также уподобляет его жрецу, служащему композитору/пророку, а партитуру – сакральному тексту. Дирижёры, как и жрецы, претендуют на право истолковывать священное слово и предписывать свои истолкования другим. Дирижёр даже танцует, как шаман, на своём маленьком подиуме».
Впрочем, смешное никогда не самоцель: «…На протяжении большей части XIX века роль дирижёра сводилась преимущественно к “внутренним”, а не “внешним” задачам; другими словами, он не “играл” на оркестре (как большинство современных дирижёров), словно это его инструмент, скорее он координировал и помогал исполнению, которое всё ещё определялось стилем, а не индивидуальной и произвольной “интерпретацией”».
После этой книги относишься к «прошлому», во всяком случае музыкальному, лучше, нежели предписывает бессознательно усвоенная нами идея прогресса: «Если риторическое музыкальное исполнение могло исторгать искренние и нескрываемые рыдания, то современный концерт способен породить лишь чопорные комментарии типа “Его прочтение вполне взвешенно, превосходно составлено, обстоятельно и очень хорошо изложено, но в нём нет того пыла, что воспламеняет слушателя”. Большинство из нас, вероятно, бывали на концертах, атмосферу которых можно определить как “непорочную скуку, возведённую в высшую добродетель”». О, да!
Из книги Брюса Хейнса следует поразительный вывод: музыкальная жизнь давних эпох оболгана, перепридумана в соответствии с филармоническим каноном нашей эпохи, и эта ложь закреплена в фальшивых киносценах из старинного быта, где непорочную скуку в равной мере культивируют и строгие музыканты со скрипочками, и чопорная аристократия в париках. Но на деле концерты той поры, кажется, до смешного походили на рок-бешенство второй половины XX-го столетия, разве что предметы одежды на сцену не бросали:
«Многочисленные очевидцы свидетельствуют о силе и огромном влиянии композиций, пробуждающих аффекты, которые в одночасье исторгали у публики слёзы и рыдания: “…Все, присутствовавшие на концерте, найдя внимательное общество, склонное получить удовольствие, были возбуждены до той точки неподдельного энтузиазма, когда внутренний огонь передаётся другим и воспламеняет всё вокруг; и соревнование между исполнителями и слушателями состояло лишь в том, кто из них доставит больше удовольствия или кто громче сможет аплодировать!” Нойбауэр, кажется, не подозревает о таких исторических свидетельствах, поскольку, по его мнению, используемые тогда аффекты были слишком ординарны. Но, по убеждению Леонхардта, старинная “риторическая” музыка должна была быть куда более экспрессивной, нежели близкая к нам музыка романтическая. Так, музыка Глюка во время его премьер в Париже заставляла публику громко, долго и неподдельно рыдать, а потом неистово аплодировать».
Уверен, чопорные поначалу люди в париках, включаясь, кричали уже разогретым музыкантам со скрипочками и гобоями нечто подобное тому, что неуёмная молодёжь дерзко скандировала на практически любом концерте в моём ясноглазом пионерском детстве: «Рок давай!»
Прогресс сомнителен, музыка вечна, хороший музыкант обрушит на публику лавину аффектов даже без помощи электрогитар, барабанов и микрофона.