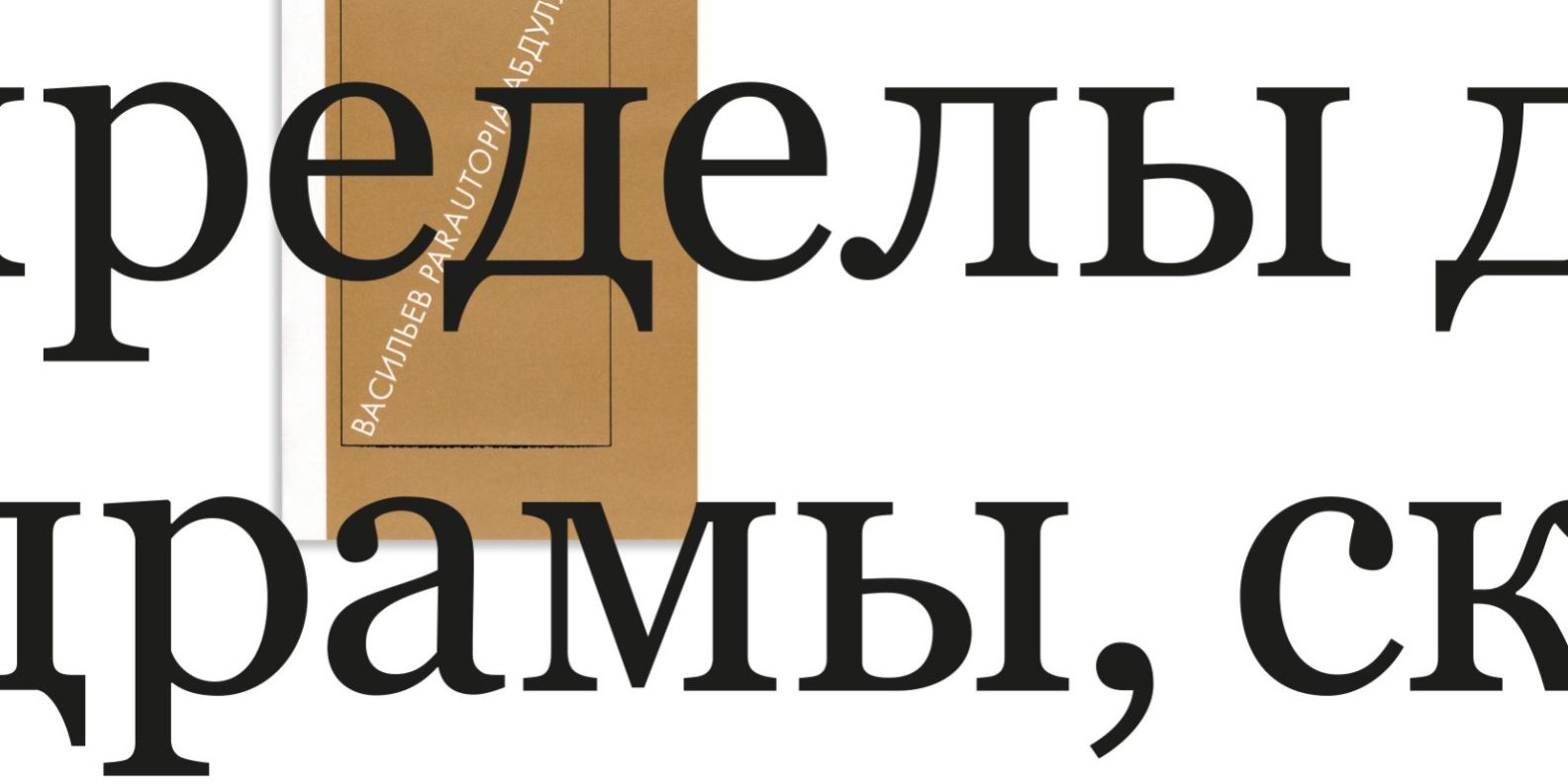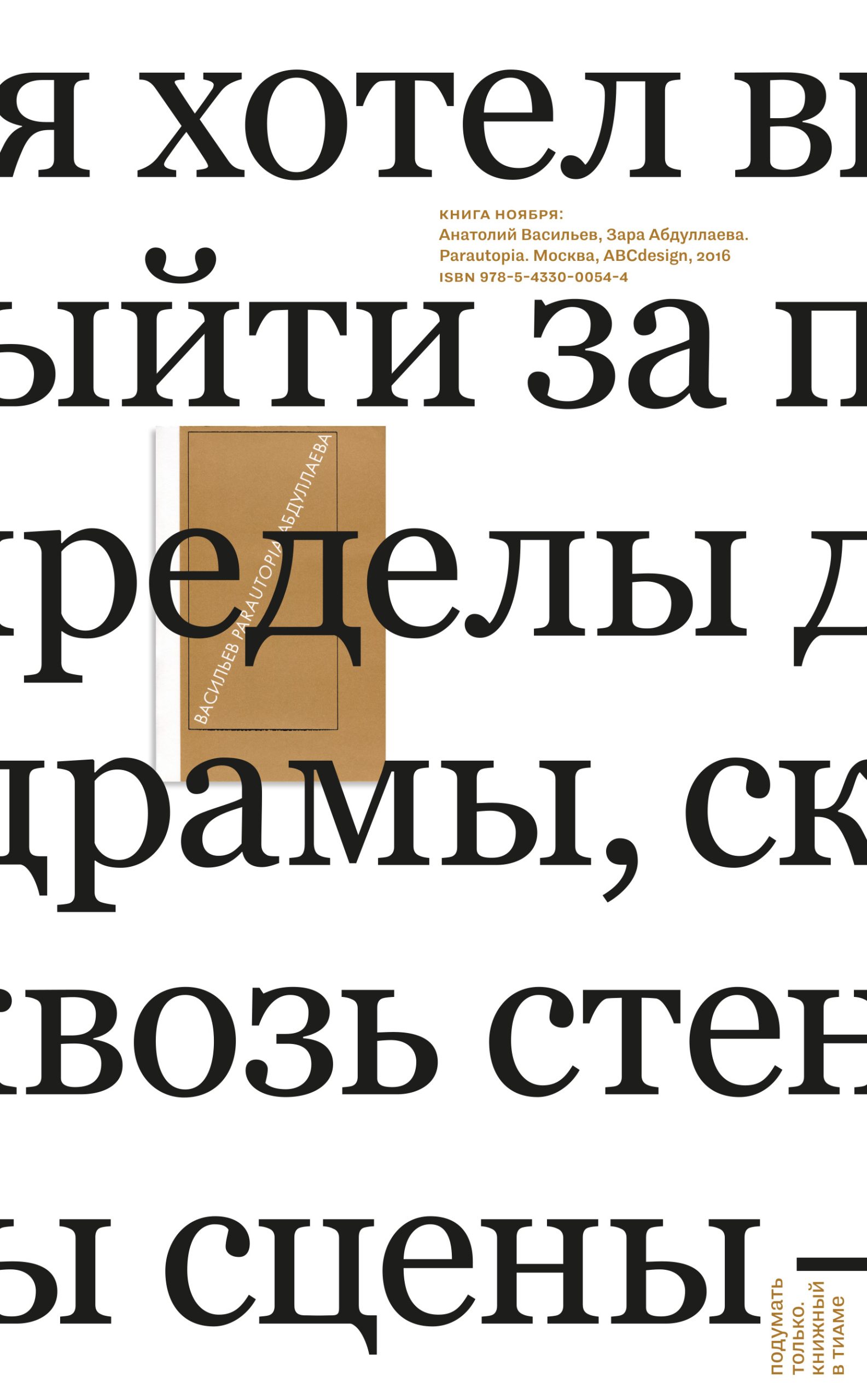
Друзья, представляем нашу книгу месяца – А. Васильев/Parautopia/З. Абдуллаева (М.: ABCdesign, 2016).
В течение ноября её можно купить у нас со скидкой 10%.
Книга «PARAUTOPIA» избыточно хороша. Во-первых, квалифицированный критик Зара Абдуллаева сумела максимально разговорить легендарного театрального режиссёра Анатолия Васильева относительно взглядов на искусство, а попутно выведала детали его потаённой биографии, сопряжённой с социальной историей нашей страны в её послевоенный период.
Во-вторых, местами Абдуллаевой не нравятся те выводы, которые делает гипер-наблюдательный и супер-честный Васильев, и тогда она упирается или юлит, но к её чести напряжение подобных моментов из текста не вымарывает – таким образом создаётся удивительная драматургическая конструкция, посильнее диалогов Платона, некоторые из которых Васильев, между прочим, перенёс некогда на сцену в своей «Школе драматического искусства». Как вообще может прийти в голову ставить старика Платона?! А Васильеву – пришло.
В-третьих, книга потрясающе издана: несмотря на мелковатый шрифт, читать и даже просто бегло её пролистывать – наслаждение. Дизайнерские находки впечатляют настолько, что покупаешь сразу два экземпляра: себе и кому-нибудь из эстетов-приятелей в подарок на большой праздник. Так, на обложке и на корешке акцентирована диагональ. Знатоки театра сразу же припомнят знаменитую постановку Васильева в Театре имени Станиславского «Взрослая дочь молодого человека». Комментируя её впоследствии, режиссёр признавался:
«Я просто-напросто не знал, как играть пьесу. Однажды начертил диагональ. Понравилось. Рассказал о диагонали художнику Игорю Попову, с которым мы десять лет работали вместе. Впоследствии Попов шутил: “Ивницкий придумал декорацию, Васильев повернул ее по диагонали, а я раскрасил”. Итак, стенку развернули из-за пожарников, но как только развернули, я ощутил жанр. И увидел, какими должны быть глаза у артистов. Фронтально стоящая стенка воспринималась эквивалентно бытовому ряду. А современные спектакли чаще всего и не получаются из-за того, что быт не “накрывают” искусством».
То есть перед нами исключительно Умная Книга – начиная от оформления и кончая рассуждениями, которые тоже порой избыточны до навязчивости, но что же делать, если только таким – гадательным – образом прорываются к невиданным доселе смыслам создатели новой художественной и социальной образности. Анатолий Васильев, практик и теоретик театра, — один из них. В нашем современном искусстве в этом смысле поставить рядом с ним практически некого. Так что всё-таки не «один из них», а, скорее, «один-одинёшенек».
Для нас, туляков, эта книга интересна более, чем для кого-либо, ведь свои детские годы Анатолий Васильев провёл в Туле. В определённые времена был остроумно похищен и схоронен за семью морями язык позитивного/не ангажированного описания реальности, в силу чего никому давно не удаётся описать по-русски какое бы то ни было Прошлое — и не только уже советское — в воодушевлённо/позитивном ключе. А между прочим, большинству людей такой способ разговора об их Прошлом важнее/дороже хлеба с колбасою. В этом смысле «PARAUTOPIA» — невероятный прорыв. Анатолий Васильев проявляет себя как несостоявшийся выдающийся рассказчик, как истинный новатор. Смешно и грустно, что этого в культурном сообществе страны фактически никто не заметил, и умная книга с ничтожным тиражом и демократичным посылом, книга, которой ныне исполнилось целых 9 лет, — до сих пор не раскуплена. Если не театралами, то хотя бы краеведами-туляками.
Автор обзора соединил вместе всего лишь несколько эпизодов из воспоминаний Васильева о тульском детстве, и одного этого нижеприведённого куска достаточно для того, чтобы отныне и навсегда считать Анатолия Александровича одним из самых важных творцов «тульского мифа» (как, кстати, и Николая Москвина-Воробьёва, автора невероятно важного для Тулы романа-хроники «Гибель реального»; 125-летний юбилей писателя и 150-летний юбилей Тульского Реального училища прошли у нас этой осенью абсолютно незамеченными):
«Я помню… я помню, как мальчиком в Туле выбегал на пыльную улицу майским вечером, а на длинных тротуарах сидели отцы и играли в домино… Я помню, как жужжали жуки, как мы играли в прятки и догонялки, как ловили тёплых майских жуков, сажали их в спичечную коробку и слушали… Я помню запахи георгинов осенью и пионов весной, а жасмина – поздней весной, клумбы с табаками и незабудками… Нет никакой последовательности в воспоминаниях. Совершенно никакой. Я не нахожу пятен, которые свидетельствовали бы о последующей красивой жизни, всё какие-то кляксы!
Я помню, как зимним снежным вечером моя мать перебежала на противоположную сторону улицы, подошла к отцу, который шёл с женщиной. Мать её ненавидела, называла “рыбий глаз”, женщина была любовницей отца. Мать вцепилась в её волосы и стала драться. Она тяжело переживала измену мужа и потом долгие годы не давала ему развод. Обращалась в партбюро, оба были коммунистами, с просьбой о воспитании и наказании Александра Ивановича, моего отца. Я помню, как засовывали жуков в спичечную коробку и поджигали спички, коробка дёргалась и взрывалась… Эти истории совершенно невоспоминательные! Я тогда узнавал, что такое любовь. Или ревность. Или – что такое жизнь. Или – что делали женщина и мужчина, когда я сладко спал в соседней комнате, на металлической койке с узорами, возле стены, под германским ковром.
Представь себе, в Туле я жил на окраине города, за рекой, на Пузакова. В частном доме, который снимала мама. Но хозяйка этого дома уехала куда-то далеко, надолго, за Урал. Поэтому мы им пользовались как собственным. Это было потрясающе. Дом остался в памяти печными запахами, тёплым кафелем, портретом вождя на двери, сенями, палисадником, яблоней, сараем, жасмином. Помню занятия музыкой, демонстрации, пионерский лагерь на Оке, недалеко от Тарусы. Календари, игры, вёдра с капустой, трофейный ковёр над кроватью, маму в этом доме, бабушку, меньше – отца. Помню маминых друзей, они жили за рекой в центре. Фотоателье, где работал папин друг фотографом, мы к нему часто ездили по воскресеньям на трамвае. В мамином альбоме до сих пор хранятся фотографии, сделанные тем человеком. Я помню себя на крыше дома в Туле. Помню кладовку, в которой наша хозяйка хранила забытые навсегда вещи. Я заглядывал в дверную форточку, мечтая разглядеть, что же там спрятано. Но попасть было невозможно. Я сижу на крыше, мама сажает табаки – цветочки, душистые на закате, они растут такими граммофонами, анютины глазки. За клумбой огород. Потом маки, я их очень любил. Рядом с сараем – потрясающий куст жасмина.
Отец с работы приносит моток суровых белых ниток – восторг подростка! На крыше я учился запускать змея. Вдруг вся улица, все пацаны под вечер, под ветер выходили их запускать. И начиналась охота за чужим змеем. Кто кого перехватит себе во двор. Змей-перехватчик. Потом, после такой воли в Туле, я оказался в Ростове-на-Дону. Троллейбусы. Арбузы. Родственники, балконы, шелковица, цирк, настоящий, под шатром. Базар. Набит живыми раками и речной рыбой: донской и азовской…»
В течение ноября книгу «PARAUTOPIA» можно купить у нас со скидкой 10%.
График работы книжного магазина:
• среда-суббота: 10:00-19:00;
• воскресенье: 11:00-19:00;
• пр. Ленина, 27, цокольный этаж