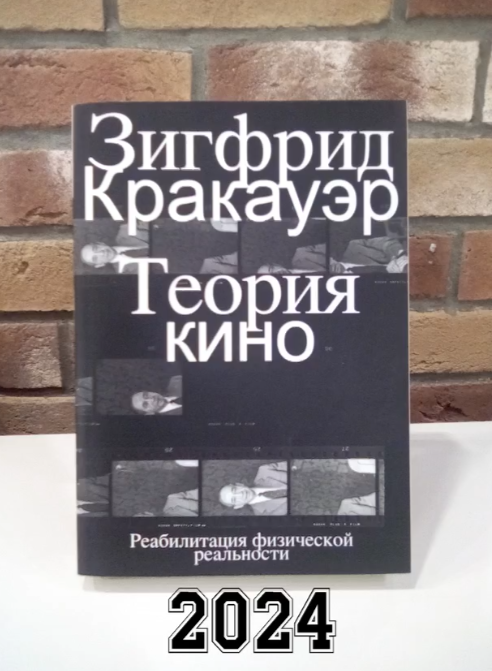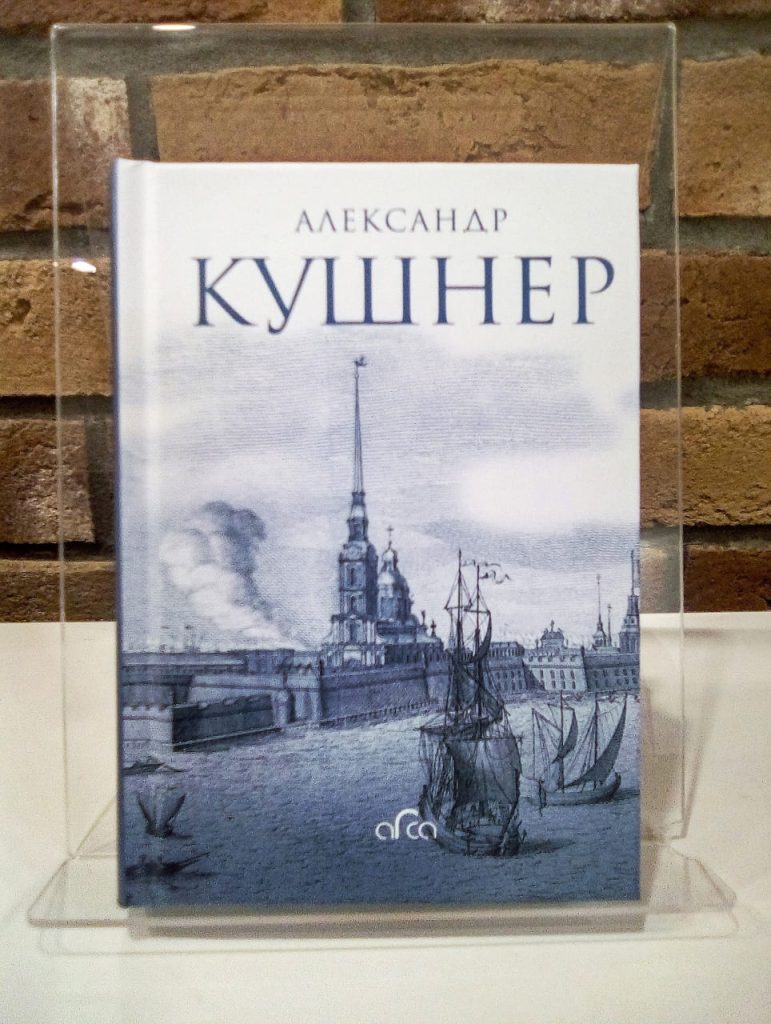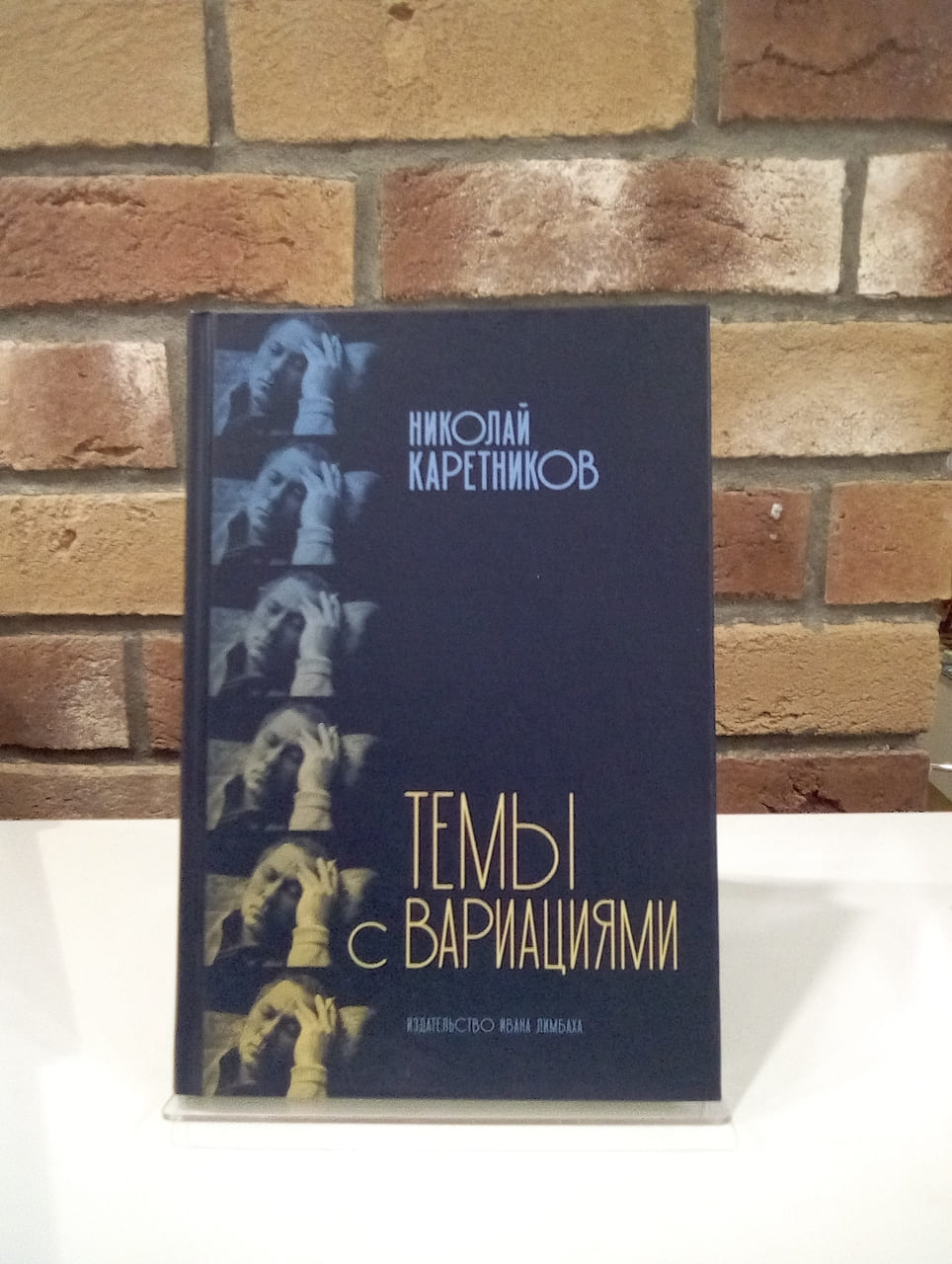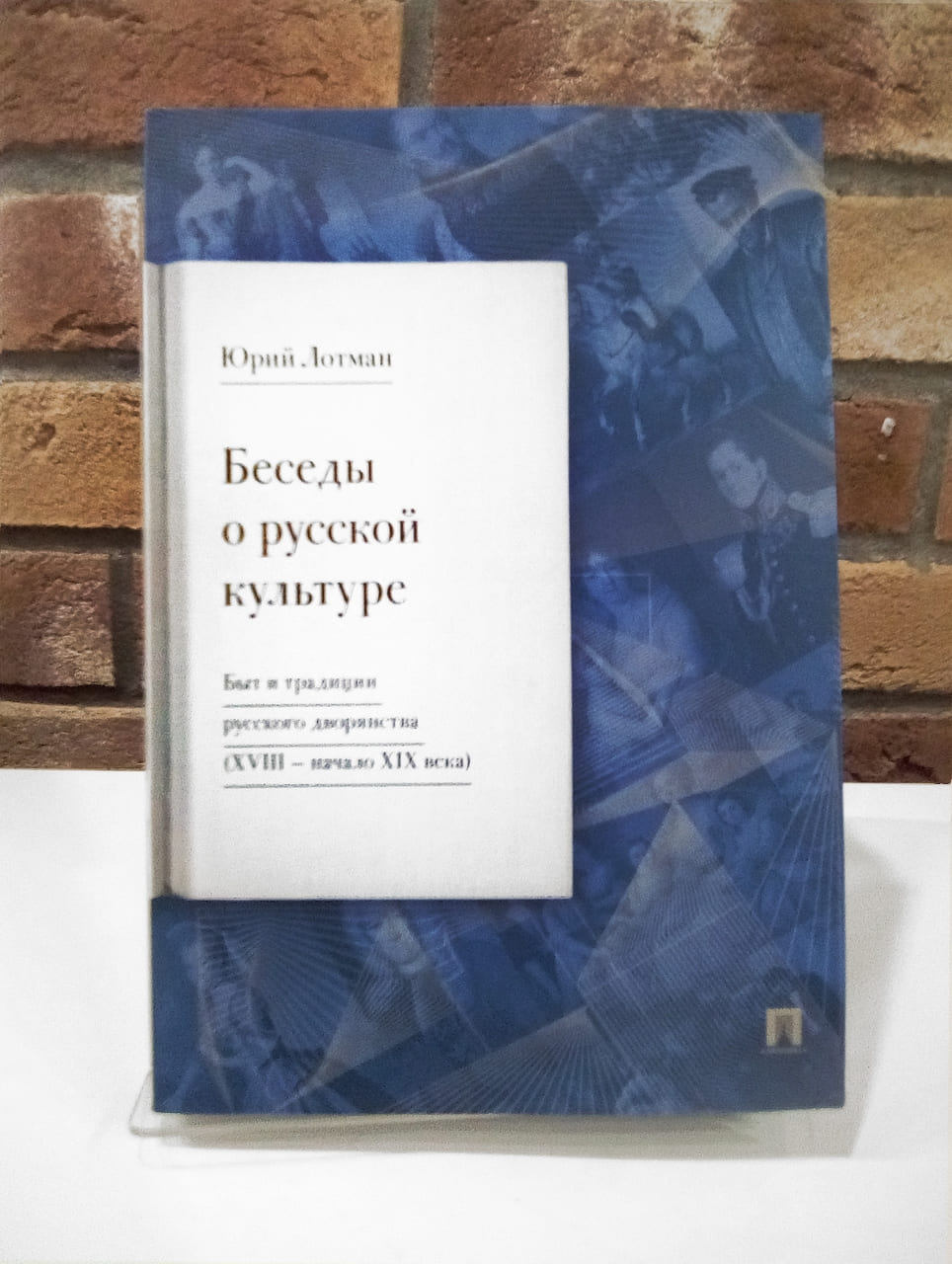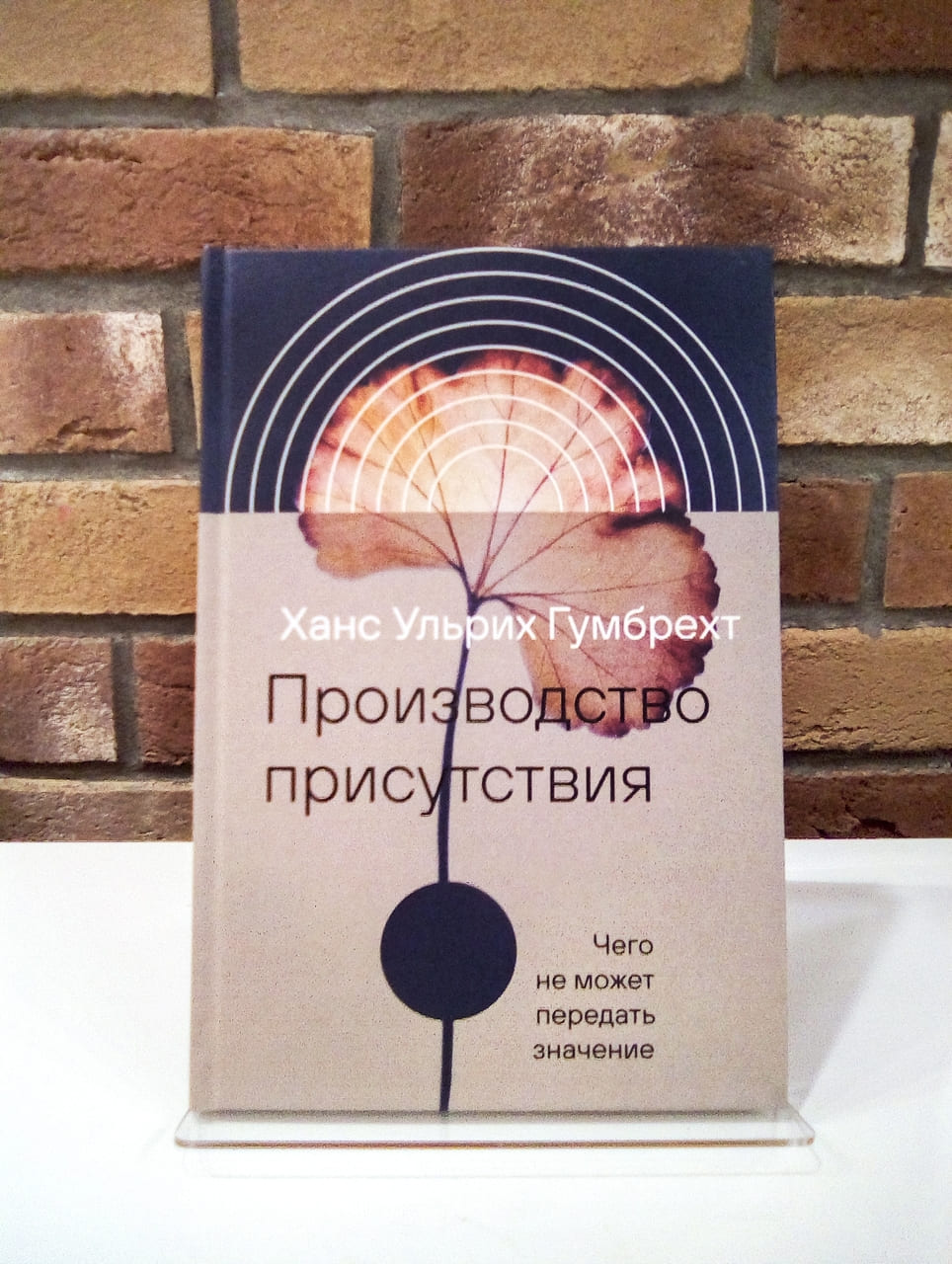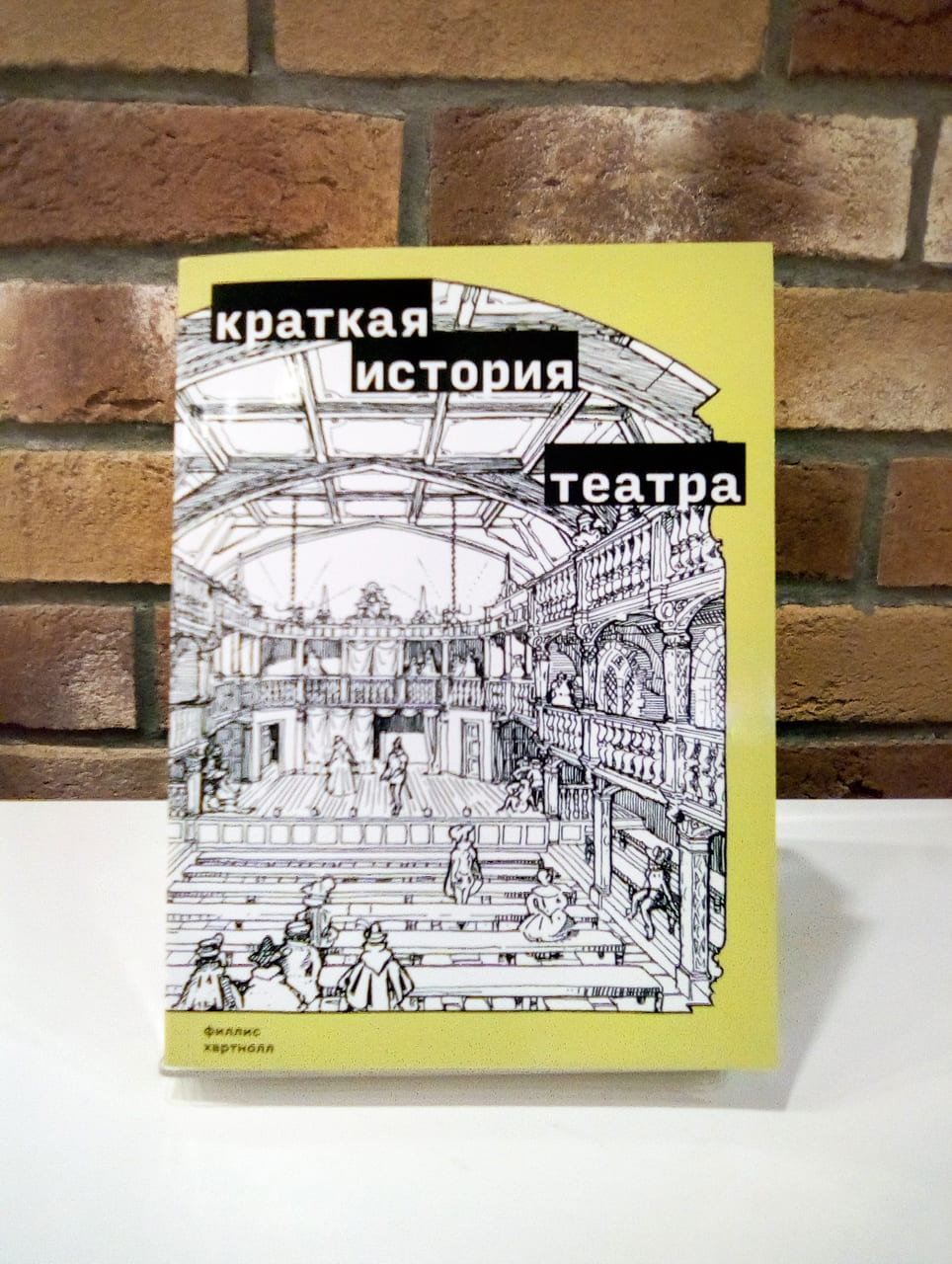Зигфрид Кракауэр «Теория кино. Реабилитация физической реальности» (М., «Ад Маргинем Пресс», 2024)
Александр Кушнер «Меж Фонтанкой и Мойкой» (Санкт-Петербург, «АРКА», 2022)
Николай Каретников «Темы с вариациями» (ИД Ивана Лимбаха, 2020)
Х.У. Гумбрехт «Производство присутствия» (НЛО, 2024)
Филлис Хартнолл «Краткая история театра» (Ад Маргинем, 2024).
Зигфрид Кракауэр «Теория кино. Реабилитация физической реальности»
Неутомимое издательство Ad Marginem вернуло к жизни заветный том кинолюбителя – “Theory of Film” Зигфрида Кракауэра, книгу, которая в юности свела с ума автора этого обзора и во многом предопределила выбор им профессии кинокритика. В прежние времена она называлась у нас «Природа фильма» (М., «Искусство», 1974), хотя смыслообразующий подзаголовок был переведён по-честному, как «Реабилитация физической реальности». То – первое — издание и сейчас у меня на почётном месте: с драным корешком, безнадёжно пожелтевшими страницами и карандашными пометками на полях.
Новое издание называется «Теория фильма» (М., «Ад Маргинем Пресс», 2024) и представляет собой отредактированный перевод Д. Ф. Соколовой 50-летней давности, «в который были добавлены отрывки (отдельные подглавки или их части, иногда фрагменты абзацев и предложений), в большинстве случаев содержащие критику тоталитаризма или размышления Кракауэра на философские темы», как сообщает в редакторском предисловии готовившая издание Ольга Улыбышева.
Так, да не так. В смысле, не вся правда. Разворот страниц 8-9 девственно чист за исключением размещённого в верхнем левом углу краткого посвящения: «Моей жене», и этот графический произвол ошеломляет, должным образом внимательного читателя настраивая. Стоит ли говорить, что посвящение отсутствовало в издании 50-летней давности. Разворот производит сильное впечатление и может служить ключом к восприятию всей вещи. В том смысле, что обещает, в отличие от предварявшего старое издание предисловия от доктора искусствоведения Ростислава Юренева, взгляд на киноискусство со стороны частного влюблённого человека, свободного внимательного наблюдателя, не скованного «профессиональными» догмами.
Улыбышева отмечает: «Опубликованная в 1960 году в Нью-Йорке, она уже изначально была старомодной (или, как и сам её создатель, изначально стояла особняком и существовала вне времени). Диапазон реакций в основном варьировался от откровенного непонимания до снисходительной критики». Заменив оригинальное личностное измерение («Моей жене») на измерение корпоративное (тот назидательный текст Юренева назывался «Зигфрид Кракауэр – теоретик киноискусства»), наши издатели из 1974-го сразу же посадили вольную шхуну автора на якорную цепь.
Эта волшебная книга не научит вас «разбираться» в кинематографе, даже и не надейтесь. Она способна на гораздо большее – научит прислушиваться к себе, верить своим реакциям, устанавливать интимную связь не только с любым из фильмов, но и с «физической реальностью», как таковой. Хотя Кракауэр был на равных с такими интеллектуальными монстрами, как Вальтер Беньямин и Теодор Адорно, он не был самоуверенным классическим мыслителем, «доктором искусствоведения» или университетским «профессором» («Профессор, снимите очки-велосипед!»).
Трогательная, много говорящая о нём деталь из предисловия Ольги Улыбышевой: «Кракауэр не принадлежал ни к одной из институций и из-за своего сильного заикания никогда нигде не преподавал». Деталь хорошо коррелирует с посвящением жене: на протяжении всей книги автор словно обращается не к жаждущей концептов и догм аудитории из учёных мужей с претензиями, но — к предельно близкому человеку, который простит и заикание, и непоследовательность изложения – за остроту взгляда, исследовательское бескорыстие и поэтическую стихию. Да-да, по свидетельству всё той же Улыбышевой, сам Кракауэр просил называть себя не автором, пишущим о кино (Filmmann), а философом культуры, социологом и поэтом!
Авторское предисловие заканчивается следующим воспоминанием: «Я был ещё юнцом, когда впервые в своей жизни увидел кинофильм. Впечатление, вероятно, было упоительным, потому что я сразу же решил написать об этом. Насколько мне помнится, это был мой первый литературный замысел. Я забыл, осуществился ли он, однако не забыл придуманного для него длинного заголовка, который я записал, как только вернулся из кинотеатра. “Кинофильм как открыватель чудес повседневной жизни” — гласил он. И я помню, словно это было сегодня, сами эти чудеса. Глубоко потрясла меня преображённая пятнами света и теней обычная улица пригорода с несколькими стоящими порознь деревьями и лужей на первом плане, в которой отражались фасады не видимых в кадре домов и клочок неба. Когда подул ветерок, тени и дома вдруг заколыхались. Я увидел наш мир дрожащим в грязной луже, — эта картина до сих пор не выходит из моей памяти».
Похоже, вся 500-страничная «Theory of Film» Зигфрида Кракауэра, которая, конечно же, никакая не «теория» в традиционном смысле, а замаскированная заикой с трепетной душой под диссертацию ПОЭМА, — есть попытка объяснить самому себе то незабываемое юношеское переживание. Человек почему-то сначала выучился на архитектора, потом полжизни подённо работал во «Франкфуртер цайтунг» как корреспондент, бежал от нацистов через Португалию, теряя по дороге драгоценных друзей, вроде Беньямина, снова размышлял и писал, но уже за океаном, — а на глубине его души, подобно тому, как это было впоследствии показано в «Гражданине Кейне» Орсоном Уэллсом, хранился, казалось бы, банальный образ из далёкого прошлого. Хранился, не давал покоя, властно заставлял себя осмысливать.
«Моя книга, — сразу признаётся Кракауэр, — отличается от большинства трудов в этой области тем, что это эстетика материальная, а не формальная. Она посвящена содержанию. В её основе лежит положение, что фильм – это, в сущности, развитие фотографии и поэтому он разделяет свойственную ей отчётливую привязанность к видимому окружающему нас миру («Видимый мир» — назовёт впоследствии свою выдающуюся книжку о немом кино и немецкоязычной киномысли Михаил Ямпольский – И. М.). Фильмы выполняют своё подлинное назначение тогда, когда они запечатлевают и раскрывают физическую реальность… Кино, надо полагать, тяготеет к отображению преходящей материальной жизни, жизни в её наиболее недолговечных проявлениях. Уличные толпы, непроизвольные жесты и другие мимолётные впечатления – для него самая подходящая пища. Знаменательно, что современники Люмьера хвалили его фильмы – первые киносъёмки в мире – за то, что они показывают “трепет листьев под дуновением ветра”».
Повторимся, тут взгляд равнодушного к формальной логике поэта. И стоит ли после этого указывать внимательному читателю на то, что связка Александр Кушнер/Зигфрид Кракауэр в наших публикациях не случайна:
Я к ночным облакам за окном присмотрюсь,
Отодвинув тяжелую штору.
Был я счастлив — и смерти боялся. Боюсь
И сейчас, но не так, как в ту пору.
Умереть — это значит шуметь на ветру
Вместе с клёном, глядящим понуро.
Умереть — это значит попасть ко двору
То ли Ричарда, то ли Артура…
Помню, в юности меня привело в восторг следующее замечание из первого издания: «Фильмы в основном «привязаны» к внешней оболочке вещей. По-видимому, они тем кинематографичнее, чем меньше сосредоточивают внимание зрителя непосредственно на самой внутренней жизни, идеологии и духовных вопросах человека. Вот почему многие люди с культурными запросами пренебрежительно относятся к кино. Они боятся, чтобы его бесспорная склонность ко всему наружному не совратила нас». Пресловутые «люди с культурными запросами» жонглировали тогда словами, как им заблагорассудится, и в этом смысле кинематограф представлялся мне оберегом, оружием обороны от пустозвонов.
Теперешнее переиздание одной из лучших книг Зигфрида Кракауэра, да ещё с вымаранными некогда философскими отступлениями в его фирменном стиле, да ещё и в умопомрачительном дизайне, — это натуральное Чудо.
Отдельно понравилось приводимое Кракауэром высказывание раннего (и лучшего) Федерико Феллини: “Хорошая кинокартина не должна стремиться к замкнутости произведения искусства, а должна содержать в себе ошибки, как жизнь, как люди”.
Александр Кушнер «Меж Фонтанкой и Мойкой»
На выходе из детства в юность неосторожно отравился Евгением Баратынским. Как следствие, недовольно морщил лоб, кривил губы, демонстрировал пресыщенность жизнью и не отвечал улыбкою даже красивым девочкам.
На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит…
Психологическая ситуация становилось угрожающей, однако, с трагической позой, заимствованной у недовольных классиков, расстаться никак не получалось.
Однажды на книжном развале у букиниста взял в руки компактную книжицу неизвестного автора от издательства «Детская литература» — «Город в подарок». Случайно открытая страница ошеломила: слог был столь же торжественный, как у гениев дворянского происхождения, а смысл – противоположный.
О, слава, ты так же прошла за дождями,
Как западный фильм, не увиденный нами,
Как в парк повернувший последний трамвай, —
Уже и не надо. Не стоит. Прощай!
Нас больше не мучит желание славы,
Другие у нас представленья и нравы…
За двадцать копеек приобрёл изрисованный детским карандашом сборник некоего Александра Кушнера и уже через неделю непрерывного чтения в режиме туда/обратно выучил его наизусть. В сущности, это был волшебный сборник рецептов жизни без позы и выкрутасов, без искусственно наведённого трагизма и вредных для душевного здоровья книжных стереотипов. И, заметьте, предельно счастливой жизни!
Поставь стакан на край стола
И рядом с ним постой.
Он пуст. Он сделан из стекла.
Он полон пустотой.
Граненый столбик, простачок,
Среди других посуд
Он тем хорош, что одинок,
Такой простой сосуд!
А рядом пропасть, словно пасть
Разверстая. И что ж?
Он при возможности упасть
Особенно хорош.
С ним не должно случиться зла,
Покуда ты вблизи.
Поставь стакан на край стола
И сам его спаси.
Конечно же, «Город в подарок» не являлся, как и сказки Андерсена, «детской книгой». Эти замаскированные под детский лепет упражнения в стоицизме и благородстве передавали от разночинца разночинцу вполне себе взрослую мудрость. После того, как Иосиф Бродский был отмечен одной авторитетной литературной премией, стало хорошим тоном преподносить публике Кушнера в режиме «сам Бродский благожелательно о нём отзывался», но это смешно. По прямой наследовавший Баратынскому Бродский – поэт объективно крупный, много и напряжённо думавший, однако, его тяжёлым мыслям зачастую недостаёт той умной лёгкости развёртывания в боевой порядок, которая характерна для стихотворений Кушнера.
Александр Семёнович и сам неоднократно, хотя не педалируя, намекал на то, что брезгует, как броской аффектацией, так и трагизмом, не обеспеченным реальными страдательными обстоятельствами:
Эти бешеные страсти
И взволнованные жесты –
Что-то вроде белой пасты,
Выжимаемой из жести.
И за словом, на два тона
Взятом выше, — смрад обмана,
Как за поступью дракона,
Напустившего тумана.
То есть нет того, чтоб руки
Опустить легко вдоль тела,
Нет, заламывают в муке,
Поднимают то и дело…
Или:
Трагическое миросозерцанье
Тем плохо, что оно высокомерно, —
— этого откровенного стихотворения не было ни в «Городе в подарок», ни в других попадавшихся мне сборниках Кушнера. Зато автор включил его в книгу, которая ждёт своих читателей в нашем магазине «Подумать только».
«Меж Фонтанкой и Мойкой» (Санкт-Петербург, «АРКА», 2022) – книга избранных произведений, слава Богу, живущего среди нас гения. Здесь нет, к сожалению, нескольких абсолютных кушнеровских шедевров, в том числе из поразившей меня некогда «детской» книжицы. Не беда, десятки и десятки других общепризнанных вещей плюс стихи, созданные уже в новом веке, — заставят читателя пережить катарсис, помогут заново выучиться жить, как случилось некогда с автором этого обзора.
Придёшь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щёк:
Таинственна ли жизнь ещё?
Таинственна ещё.
Не надо призраков, тене́й:
Темна и без того.
Ах, проза в ней ещё странней,
Таинственней всего…
Особенностью этого сборника являются его карманный формат и наличие матерчатой закладки — ровно то, что нужно для Кушнера! Ходишь бродишь с возлюбленной (- ым), детьми, с собакой или в одиночестве, достаёшь внезапно, открываешь наугад и – проваливаешься в пресловутую неслыханную простоту, которая, тем не менее, «таинственней всего», а после заражаешь этим настроением спутников.
Увези меня в Тулу, Туву,
Симферополь, Великие Луки.
Увези меня, там оживу, —
вроде бы, дельное предложение. Как человек проживший несколько лет в Петербурге, сильно там заболевший и совершенно те места не полюбивший, понимаю, тем не менее, что привязанный к своему заветному городу Кушнер лукавит. «Оживает» он единственно у себя в Петербурге, а Тулу представляет себе плохо, как, вероятнее всего, и Туву. Но его стихи с тем моим жизненным периодом отчасти примиряют и, бывает, перемещаясь по Туле, восхищённо декламирую:
Полузаметен и неярок,
Как бы увиденный сквозь сон,
Таится город, как подарок,
Что неспроста преподнесён.
Написано о Петербурге, но применимо – благодаря универсальности авторского художественного метода – ко всякому месту, которое представляется тебе родным и необходимым. Впрочем, Александр Кушнер и без нашей помощи умеет изысканно обобщать, беззлобно при этом иронизируя:
Снег подлетает к ночному окну,
Вьюга дымится.
Как мы с тобой угадали страну,
Где нам родиться!
Вьюжная. Ватная. Снежная вся.
Давит на плечи.
Но и представить другую нельзя
Шубу, полегче.
………………………………………………………..
И англичанин, что к нам заходил,
Строгий, как вымпел,
Не понимал ничего, говорил
Глупости, выпив.
Как на дитя, мы тогда на него
С грустью смотрели.
И доставали плеча твоего
Крылья метели.
По прочтении этой книги самые будничные «дни» представляются драгоценными подарками. Пускай и у вас, и у нас их случится побольше.
Николай Каретников «Темы с вариациями»
Люди какой профессии были в Советском Союзе самыми «секретными», самыми непрозрачными? Ядерные физики, чекисты, члены Политбюро? Ничего подобного. Меньше всего известно о так называемых «серьёзных» композиторах – всех этих сочинителях сонат, кантат, квартетов, симфоний, опер, балетов и ораторий. С ходу приходит в голову один-единственный общеизвестный факт: все они, и либералы, и почвенники, одинаково не любили многолетнего Первого секретаря Союза композиторов Тихона Николаевича Хренникова. Возможно, за то, что он, помимо «серьёзных» произведений, которые не должны нравиться массовой аудитории по определению, ещё в молодости насочинял на свою беду несколько десятков сверхпопулярных шлягеров, мелодичных и обаятельных.
Да-а, ещё Родион Щедрин был женат на Майе Плисецкой. Также просочились в широкий обиход нелицеприятные выдержки из дневников Георгия Свиридова, где он громит горе-экспериментаторов, да отрывки из бесед с Альфредом Шнитке, который по мере сил старался необходимость этого эксперимента обосновать. Не в первый раз изданная книга композитора Николая Каретникова (1930-1994) «Темы с вариациями» (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020) хоть как-то заполняет пробел, в лёгкой и, как говорится, непринуждённой манере повествуя о жизни, нравах, приобретениях и потерях людей из этого малоизвестного социального круга.
Скажем без обиняков: книга невероятно хороша. Автор этого обзора только собирается приобщиться к музыкальному творчеству записного авангардиста, формалиста и, с позволения сказать, додекафонщика (от «додекафония») Каретникова, но уже преисполнен в этом отношении самых радужных ожиданий, ведь Каретников ясно мыслит, связно пишет, склонен к острым оценкам и парадоксальным смещениям. В книге, состоящей из множества коротких глав (каждая со своим сюжетом из реальной жизни), в неподражаемой юмористической манере даётся не меньше чем социо-психологический портрет такого ключевого для Советского Союза слоя, как «творческая интеллигенция». Здесь раздеты, пардон, до трусов и даже хуже не одни лишь «серьёзные» музыканты, которых по прочтении начинаешь если не ценить, то хотя бы понимать, но и деятели из смежных областей – кинематографа, театра, литературы. Не оторваться!
Внимательный читатель заметит, что Каретникову вполне свойственна корпоративная солидарность и, допустим, известную любовную историю об уходе Зинаиды Николаевны Нейгауз — супруги Генриха Густавовича Нейгауза, пианиста и педагога – к Борису Леонидовичу Пастернаку, поэту и гражданину, автор книги толкует хоть и гротескно, но преимущественно в пользу коллеги-музыканта:
«Читаю письма Б. Л. Пастернака к З. Н. Нейгауз и часто наталкиваюсь на фразы приблизительно такого смысла: “Ах! Что мы делаем!.. За спиной этого великого человека!.. Надо признаться!.. Надо прекратить ложь!.. Всё это так ужасно” и т.п.
Спрашиваю А. Г. Габричевского о том, как прореагировал Генрих Густавович на уход Зинаиды Николаевны к Пастернаку.
Александр Георгиевич ответил:
— В один прекрасный день в эту квартиру ворвался Гарри. Он прыгал по комнате, как кузнечик, ударял в ладоши и восклицал: “Избавился! Избавился! Избавился!!!”»
Здесь, согласимся, хорошо видна некая специфика в отношениях, которая не характерна для людей иных занятий и другого статуса (письма, письма не только не уничтожили, но впоследствии ещё и опубликовали!). Говорю безо всякой иронии: у каждой значимой социальной группы свой, что называется, габитус, свои наработанные привычки, своя манера поведения, и в этом смысле книга Каретникова невероятно расширяет кругозор. Практически на каждой (!) странице испытываешь культурный шок, потому что социальные практики «серьёзных» композиторов и примыкающих к ним деятелей – весьма далёкая вселенная, хотя эти мастера искусств, все до единого, жили/работали в недалёких от нас Москве или Ленинграде.
Таким образом, я хотел бы подверстать книгу «Темы с вариациями», которая по внешним параметрам походит на сборник неприятных анекдотов, вроде довлатовских, — к корпусу серьёзной научной литературы по социологии и антропологии. Вот именно, текст Николая Каретникова – своего рода полевые исследования антрополога, вполне себе ответственные, небанальные, смешные только по виду.
Чего стоит следующая история о контакте автора с Дмитрием Дмитриевичем Кабалевским – четвёртым, по утверждению Каретникова, сочинителем серьёзной музыки в иерархии советского Союза композиторов:
«…Итак, исполняли его Четвёртую симфонию. Музыка была обычной, кабалевско-советской. Несколько обращала на себя внимание только третья часть – траурная… Я сидел, слушал и злился. После исполнения, несколько успокоившись, решил всё же пойти поздравить его. Когда изрядная толпа отпоздравлялась, и он на какой-то момент остался в одиночестве, я подошёл к нему: «Поздравляю Вас, Дмитрий Борисович!» — и ничего более к этому не прибавил. Он внимательно посмотрел на меня и всё понял: он ведь умненький.
Народный артист СССР, доктор музыковедения, член Академии педагогических наук, секретарь Союза композиторов СССР, орденоносец, лауреат Сталинских премий, будущий лауреат Ленинской, будущий Герой Социалистического Труда, будущий председатель жюри конкурса имени самого себя и будущий «Лучший музыкальный друг детей» неожиданно склонился к моему уху и тихо произнёс: “А что, Коленька, музычка-то говённенькая?..” — и, задержавшись на мгновение, отошёл.
Мне стало страшно».
Между прочим, отдельно останавливает читательское внимание – дотошность, с которой Николай Каретников перечисляет регалии Кабалевского. Конечно, он их все скопом презирает, и всё-таки…
Итожим. Эта книга написана субъективно честным, гипер-внимательным человеком и при этом супер-профессиональным музыкантом. Эти личные качества Николая Каретникова обеспечивают его книге статус, как уже было сказано, уникального исследования по социальной антропологии. В то же время, Каретников – не профессиональный писатель и, значит, не имеет навыка припрятывать невыгодные для себя детали, чувства и обстоятельства. Иные интонации в книге слишком уж откровенны. Так вот, благодаря этой писательской неискушённости книга «Темы с вариациями» набирает ещё несколько сот премиальных баллов и превращается в документ убийственной силы.
Персонажи книги, подобно героям двух выше приведённых новелл, располагаются в пространстве между личной жизнью и производственными отношениями, между любовью и работой. Ну, как и все мы. Благодаря этому, любой читатель легко подключается к чтению и психологически соотносится с титулованными народными артистами или обиженными авангардистами, хотя, скорее всего, не знает нотной грамоты и не обладает мало-мальским музыкальным слухом.
Юрий Лотман «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века)
В узких кругах Юрий Лотман известен как замысловатый структуралист, лидер Московско-тартуской семиотической школы, «в центре внимания которой были проблемы языка и культуры, представляющей собой знаковую систему, состоящую из “бинарных оппозиций” и содержащую “универсальный код”». Свою первую курсовую работу на филологическом факультете Ленинградского университета Лотман писал под руководством самого В. Я. Проппа!
Однако, широкой общественности Юрий Михайлович известен как литературовед-популяризатор и заядлый пушкинист. В конце 1980-х на советском телевидении показали многосерийный фильм с записью его устных рассказов о быте и традициях русского дворянства XVIII – начала XIX вв. Фильм имел громадный успех, а доработанные лекции Лотмана были впоследствии многократно изданы в книжном формате. Вниманию посетителей нашего магазина предлагается, что называется, бюджетный вариант этой классической книги. За небольшую цену – столько увлекательной информации, что диву даёшься и не устаёшь благодарить легендарного исследователя, да знающих толк в литературе издателей.
Отметим, что семиотик Лотман понимал “информацию” особым образом. «Трюизм и банальность неинформативны!» — утверждал он, а ведь подавляющее большинство популярной исторической литературы как раз на общеупотребительных истинах и базируется – так, чтобы читатель как будто припоминал нечто ему уже известное и, сравнивая с только что прочитанным материалом, убеждался в его, этого материала, подлинности, а заодно и в собственной эрудированности.
Не так у Лотмана! Юрий Михайлович, или ЮрМих, как звали его коллеги, перед читателем не заискивал, шёл, что называется, «от себя»: никаких заимствований по умолчанию, строгая проверка документальных источников, мастерская их обработка в соответствии с методом, выработанным в Московско-тартуском кружке. Поэтому даже более-менее известная тебе информация о «пушкинской эпохе» под его пером приобретает совершенно новые очертания и смыслы.
Названия некоторых глав:
— Люди и чины
— Женский мир
— Бал
— Сватовство. Брак. Развод
— Русский дендизм
— Дуэль
— Искусство жизни
— Век богатырей
— Люди 1812 года
Книга иллюстрирована.
Х. У. Гумбрехт «Производство присутствия»
Допустим, за годы жизни вам не удалось разобраться, что же такое герменевтика с феноменологией, и вы этого немного стесняетесь, однако, по щелчку умеете останавливать «внутренний диалог» и уютно располагаться в местечке под названием «Здесь и Сейчас».
Или даже так: вы млеете от самой природы театра, твёрдо собираетесь посетить итоговые показы в рамках проекта ТИАМ «Место действия: лето», из теоретиков кино предпочитаете Кракауэра с его «реабилитацией физической реальности», а вдобавок регулярно изнуряете тело интенсивными тренировками.
Что, сходится? Значит, вы и есть идеальный читатель книги Ханса Ульриха Гумбрехта «Производство присутствия: Чего не может передать значение» (М.: Новое литературное обозрение, 2024). Вы – её целевая аудитория, ныряйте и поплывёте.
Фраппировавший некогда почтенную публику изысканной книжечкой «Похвала красоте спорта», в своей очередной работе профессор Стэнфордского университета Гумбрехт снова не стесняется: «Эта книжка никоим образом не задумана как «памфлет против» понятий и значения вообще или же против понимания и толкования. Не написана она и против картезианского наследия в нашей современной культуре. Моя скромная идея состоит в том, что картезианское мышление не покрывает собой всей сложности нашего существования». В общих чертах картезианство – это «я мыслю, следовательно, существую», а Гумбрехт призывает «быть заодно с вещественным миром», без которого будто бы и жизнь – не жизнь.
Гумбрехт вряд ли гений, нет, он определённо лучше, чем гений: добрый мудрый дядюшка, который с привлечением базовых философских понятий – позволяет простым смертным дышать, как у них получается, любовно трогать то, до чего дотягивается их рука, не париться по поводу того, что «понятийный аппарат» не вызывает у них воодушевления, а МИР, данный в ощущениях, — вызывает.
«”Метафизика” обозначает у меня такую позицию, при которой значению явлений придают более высокую ценность, чем их материальному присутствию. В отличие от “присутствия” и “вещественного мира”, слово “метафизика” играет роль козла отпущения в небольшой концептуальной драме, которая в этой моей книге разыгрывается. Эту роль козла отпущения метафизика разделяет с другими понятиями и названиями – такими как “герменевтика”, “картезианское мировоззрение”, “субъектно-объектная парадигма” и в особенности “толкование” (интерпретация)».
О, спасибо! В особенности, за унижение маловразумительно звучащей по-русски “субъектно-объектной парадигмы”.
Выясняется, что у Гумбрехта есть авторитетные союзники: «…Мне близок этот исходный пункт книги Жан-Люка Нанси “Рождение к присутствию”: “В какой-то момент начинаешь злиться, просто злиться на множество речей и текстов, единственной заботой которых является создать ещё немножко смысла, заново переделать или усовершенствовать какие-нибудь тонкие конструкции значения”. Присутствие, которого желает Нанси как альтернативы всем дискурсам, создающим “ещё немножко смысла”, – призвано восстановить момент физической близости и осязаемости, а “наслаждение присутствием” – у него в высшей степени мистическая формула».
Исключительно уместно появление в книге Гумбрехта Мартина Хайдеггера: «Главный концептуальный ход философа заключался в том, что человеческое существование охарактеризовано им как “бытие-в-мире”, то есть такое существование, которое всегда уже находится в субстанциальном, а стало быть, и пространственном контакте с вещественным миром».
Гумбрехт ошеломляет изысканными переходами от своего рода анархизма к академизму, от философии к театру, и при этом “всё понятно, всё, — как выражался поэт — на русском языке” (за что отдельная благодарность блистательному переводчику Сергею Зенкину): «Подобно тому, как в протестантской теологии субстанции тела Христова и крови Христовой заменялись значениями, так и в зрелищах и театральных представлениях Нового времени внимание зрителей переключалось с собственного тела актёров на воплощаемые ими характеры… Новоевропейская сценография привнесла и нечто новое – занавес, отделяющий сцену, где разыгрывается сюжет, от пространства зрителей. Тем самым, актёрские тела оказываются (по крайней мере, в теории) удалёнными и недосягаемыми для зрителей. Напротив того, средневековый театр, насколько можно судить, по большей части действовал совсем иначе (если только слово “театр“ достаточно точно применимо к культуре, где чуть ли не каждый акт коммуникации был спектаклем, опирающимся на человеческое тело)».
В финальной главе Гумбрехт описывает театральные традиции Но и Кабуки с таким воодушевлением (при этом ни на секунду не теряя нить повествования!), что хочется немедленно отправиться в Японию – приобщиться и разделить его аргументированные восторги: «…В то время, когда ритмы и явления японского театра захватывали моё тело и воображение, мне вспоминались языки, в христианской традиции явившиеся апостолам на Пятидесятницу…»
Ф. Хартнолл «Краткая история театра»
«Любите ли вы театр так, как люблю его я? Идите же в театр и там умрите!» Сколько удивительных, порою экзальтированных и скандальных слов было посвящено театральному искусству. Ханс Ульрих Гумбрехт договорился до того, что будто бы в далёкие времена буквально «каждый акт коммуникации был спектаклем, опирающимся на человеческое тело».
Неутомимое издательство Ad Marginem вознамерилось добить фанатов театра компактной, но всеобъемлющей энциклопедией. А мы-то, впрочем, и рады! Тем более, что сейчас в ТИАМе полным ходом идёт серьёзная работа в рамках театрального проекта «Место действия: лето». Книга Филлис Хартнолл (1906 – 1997) «Краткая история театра» (М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. – 336 с.: цв. илл.) будет, поэтому, как никогда уместна.
Филисс Хартнолл – вполне себе легендарная личность, британская поэтесса и исследовательница театра, автор первых театральных энциклопедий на английском языке. Её «Краткая история…» — классический обзор истории сценического искусства от древности до наших дней. Глава первая – «Античный театр», глава вторая – «Средневековый театр», <ещё восемь глав>, глава одиннадцатая – «Ибсен, Чехов и “театр идей”», глава двенадцатая – «Модернистский театр», глава тринадцатая – «Современный театр».
В комплекте с блистательным текстом идёт фирменный дизайн от нашего любимого издательства — с сотнями картинок и десятками поясняющих врезок, со внятными примечаниями, именным указателем и обширным списком специальной литературы.
«Ad Marginem, доколе? Ну, когда же это интеллектуальное пиршество прекратится? Не хватает денег, времени, не хватает слов восхищения и благодарности». – «Нескоро. Никогда. Даже не надейтесь. Ждите новых захватывающих переводов с языков народов мира». – «Смиряемся. Ждём. Пока же читаем и перечитываем то, чего дождались».
Пускай же до конца лета, до конца купального сезона нашим и вашим заветным другом станет КИТ: «Краткая история театра».